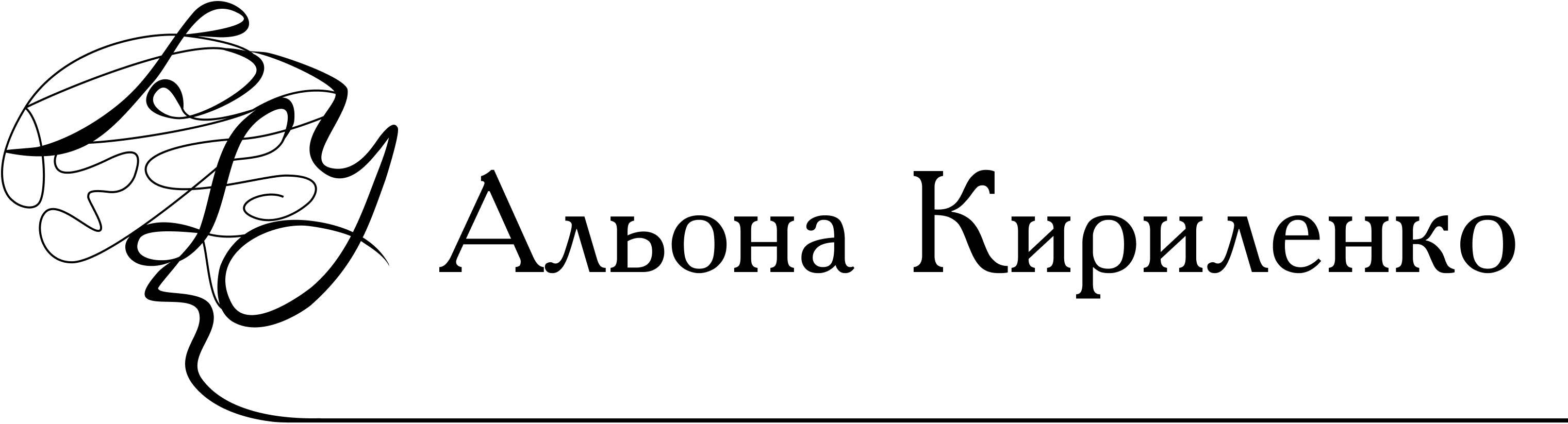
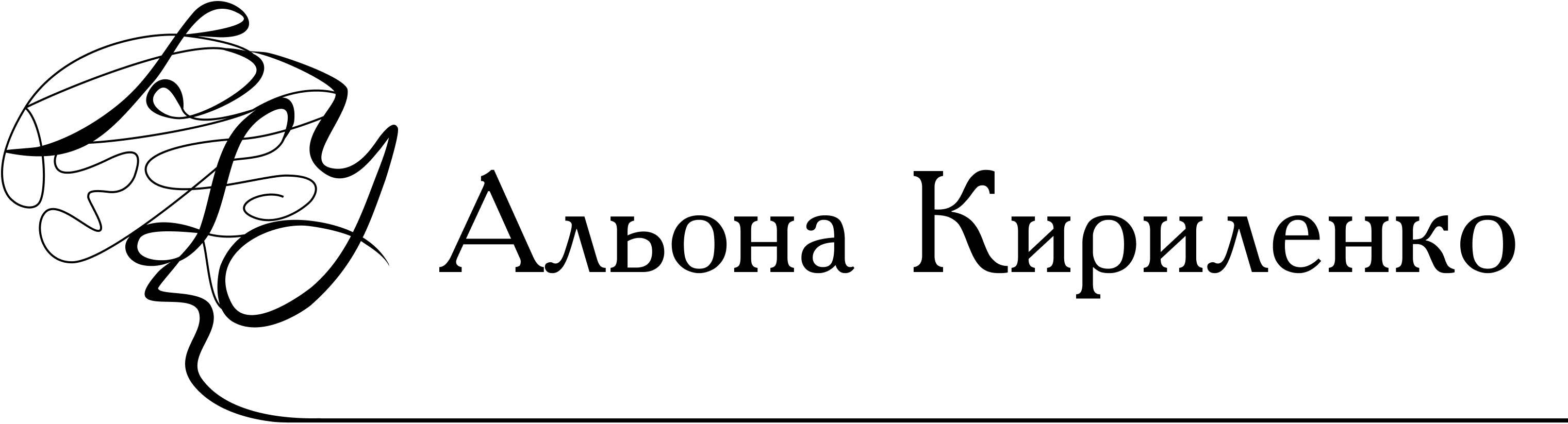
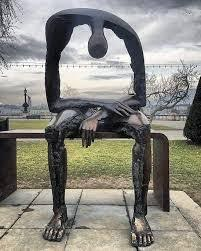
Марья Торок в статье «Болезнь траура и фантазм чудесного трупа» уделяет особое внимание понятию интроекции и ее отличия от инкорпорации. Она считает, что современные авторы интроекцию сводят «к поверхностному аспекту: обладание объектом путем инкорпорации» [2].
В своей статье М. Торок ссылается на Шандора Ференци, в работах которого впервые встречается термин интроекция как механизм противоположный проекции. Ференци дает следующее определение интроекции: «Я описал интроекцию как распространение аутоэротического интереса на внешний мир путем «втягивания» его объектов в Я. Я придал большое значение этому «втягиванию» и хотел показать, что понимаю любую объектную любовь (или перенесение) — и у нормального человека, и у невротика (естественно, и у параноика) — как расширение Я, то есть как интроекцию. Строго говоря, человек может любить только самого себя; любя какой–то объект, он принимает его в свое Я. [...]Таким образом, механизм любого перенесения на какой–то объект, а значит, и любой объектной любви, я представляю себе как интроекцию, как расширение Я» [3].
Таким образом, по теории Ш. Ференци, двигателем для интроекции не является утрата объекта и целью интроекции не является компенсировать утраченный объект, как при инкорпорации. Интроекция связана с процессом роста, с расширением и обогащением Я. При интроекции речь не об объекте, а о влечениях и при этом объект является лишь поводом и посредником. Марья Торок пишет: «Интроекция, по Ференци, предназначает объекту — и в данном случае аналитику — роль медиатора бессознательного. Колеблясь «между нарциссическим и объектным», между ауто– и гетероэротизмом, она трансформирует импульсивные возбуждения в желания и фантазмы желания и делает их тем самым способными получить имя и право гражданства и возможность развернуться в объектной игре» [2]. И М. Торок говорит о том, что полюс Я на пути конституирования инвестируется тем более интенсивно, если он содержит в себе обещание интроекции. «Объект, предполагаемый обладатель всего того, что требуется Я для своего роста, долго остается в центре его интереса. Он сойдет с воображаемого пьедестала, на который его возвела потребность в расширении Я, только тогда, когда процесс интроекции придет к своему завершению» [2]. И если процесс интроекции был завершен и желания, связанные с объектом были интроецированы, то после утраты объекта не происходит никакой крах или меланхолия. В этом случае мы имеем дело с работой скорби, либидо сможет быть снято от объекта и со временем перенаправлено на другие объекты.
Когда процесс интроекции остается незавершенным, тогда после утраты объекта, мы имеем дело с инкорпорацией. Утрата действует как запрет, который представляет для интроекции непреодолимое препятствие. Торок пишет: «Неассимилированная часть влечений закрепляется в Имаго — будучи все время спроецированным на какой–либо внешний объект, — оставаясь неполным и зависимым, Я вовлекается в противоречивые обязательства: поддерживать жизнь любой ценой, даже тем, что обуславливает наибольшее страдание. Откуда такое обязательство? Это понятно, учитывая следующее: Имаго конституировано именно как хранитель надежды: желания, которые оно само запретило, однажды реализуются. Ожидая, именно оно ослабляет и удерживает ценную вещь, недостаток которой калечит Я». [2]. Поэтому М. Торок предлагает термин инкорпорация применять к потере, которая произошла «до того, как от желаний, касающихся объекта, можно отказаться». Для того, чтобы компенсировать недостающие интроекции совершается инкорпорация утраченного объекта. М. Торок пишет: «...испытывая жажду осуществить интроекцию, несмотря на непреодолимое внешнее препятствие, Я обманывает себя магическим действием, где «поедание» (пиршество) предлагается как эквивалент немедленной, но чисто галлюцинаторной и иллюзорной «интроекции». Маньяк шумно объявляет своему бессознательному, что он «ест» (акт, который означает для Я процесс интроекции), но это лишь пустая речь, интроекция ничтожна. Именно на этот уровень магической реализации регрессирует Я, которому отказано в прогрессивном либидинозном обогащении» [2].
По мнению М. Торок, инкорпорация может реализоваться путем репрезентации, аффекта или некоторого телесного состояния, либо используя одновременно две или три модели, но это всегда отличается от прогрессивного процесса интроекции моментальным и магическим характером.
Клод Эсканд на курсе лекций, посвященных аддикциям говорил о том, что инкорпорацию используют все младенцы, но не для всех этот механизм остается ведущей защитой от утраты. И тем, что помогает ребенку перейти от инкорпорации к интроекции является холдинг в понимании Д. Винникотта. По мнению Д. Винникотта, мать должна сопровождать траур ребенка по утрате груди и тогда инкорпорация сменяется интроекцией. Д. Винникотт называет холдингом «все, что мать делает, и все то, чем она является для своего грудного ребенка» [1]. Речь идет о способности матери посвятить себя заботе о ребенке, сонастроиться с его потребностями, которые касаются не только физического ухода, но учитывает и все многочисленные тонкости взаимодействия матери и ребенка. Если матери удается быть «достаточно хорошей матерью», то врожденная тенденция ребенка к росту реализуется. Одним из важных моментов, в которых роль матери очень важна – это процесс интеграции. Д. Винникотт пишет: «...благодаря хорошему холдингу ребенок может спокойно переживать как состояние неинтегрированности и расслабления, так и часто повторяющиеся фазы целостности, представляющие собой часть врожденной тенденции развития. Ребенок легко переходит от интеграции к смягченному расслаблением состоянию отсутствия интеграции — и обратно. Накапливаясь, подобный опыт формирует паттерн основных ожиданий ребенка. Ребенок начинает верить в надежность внутренних процессов, ведущих к интеграции в отдельную единицу. С развитием и обретением «внутреннего» и «внешнего» пространств ребенок приобретает и уверенность в надежности окружения, иными словами, перед нами интроекция, основанная на опыте надежности (человеческой, несовершенной, немеханической)» [1].
Важно отметить, что «достаточно хорошая мать» для Д. Винникотта не имеет ничего общего с идеальной матерью. Более того Д. Винникотт пишет, что обязательно наступает период, когда просто необходимо «чтобы мать потерпела «неудачу» в своих стараниях приспособиться к нему». Опыт всемогущества является важным для ребенка, из этого опыта развивается доверие к миру, что в этом мире может содержаться желаемое и нужное, этот опыт влияет на способность к созиданию, но этот период не должен длится вечно. Иллюзия всемогущества формируется во взаимоотношений с матерью. Когда у ребенка возникает потребность, например, он чувствует голод, мать вовремя предлагает грудь и в нужном объеме позволяет ребенку насытиться, то у него создается иллюзия, что эту реальную материнскую грудь он «создал» сам.
Но Д. Винникотт пишет, что подарив ребенку эту иллюзию матери также придется «провести его и через процесс крушения иллюзий, являющийся более широким аспектом отлучения от груди». И на мой взгляд, мы подходим сейчас к тому моменту, где от матери и/или окружения зависит то, будет ли ребенок прибегать к инкорпорации или у него получится сместится в сторону интроекции. Д. Винникотт пишет, что процесс крушения иллюзий – это всегда болезненный процесс, ребенок испытывает сильные страдания и «самое первое, что могут взрослые предложить ребенку, – это свое желание сделать реальность терпимой для него до тех пор, пока он полностью не лишится иллюзий и не будет способен вносить истинный вклад в общество». На лекциях, посвященных аддикциям, Клод Эсканд говорил о необходимости «прерывности». Условно говоря младенец не должен постоянно спать или постоянно сосать грудь, необходимы не только присутствие объекта–груди, но и ее отсутствие. Ожидание в этих перерывах – это испытание для младенца и он чувствует гнев и требует все немедленного и прямо сейчас. Клод Эсканд говорит, что прерывность – это начало фрустрации или, как говорит Д. Винникотт, постепенное крушение иллюзий. Это крушение иллюзий позволяет «открыть» мать , которая до этого находилась за тотальным объектом грудью или Вещью. И задача матери и/или окружения сделать так, чтобы помочь младенцу выносить эту прерывность, например поговорить с ребенком, поиграть, предложить игрушку, вообщем помочь ребенку справиться с моментами фрустрации, умиротворить его, успокоить. И если окружение терпит неудачу в этом сопровождении младенца, то он может прибегать к инкорпорации, чтобы хоть как то справиться со своими переживаниями. Д. Винникотт пишет: «Неудача приспособления в целом или отсутствие необходимой поддержки вызывают у ребенка невообразимую тревогу, и содержание этой тревоги таково:1) Распад на куски.2) Бесконечное падение.3) Полная изоляция из–за отсутствия каких бы то ни было способов коммуникации.4) Разъединение психики и сомы. Все это результаты лишения, или оставшегося неисправленным общего изъяна окружения» [1].
Причин по которым окружение может терпеть неудачу множество, начиная с трудностей, связанных с личной историей родителей до каких то трагических жизненных ситуаций, обстоятельств и т.д. Важно отметить, что что Д. Винникотт пишет о материнских отклонениях. Он пишет, что есть две крайности: есть мать, у которой слишком сильный интерес к себе и она не может проникнуться нуждами ребенка и есть мать, для которой «ребенок становится предметом патологической вовлеченности». Винникот пишет: «Патологическая вовлеченность приводит не только к слишком длительной идентификации с ребенком, но и к нежелательно резкой перемене, когда мать наконец возвращается к своим прежним заботам. Нормальный процесс ослабления идентификации матери с младенцем — это нечто вроде отнятия от груди. Для матери, склоняющейся к первой крайности, не существует и проблемы отнять младенца от себя, потому что она никогда себя ему в должной мере не отдавала. Мать противоположного типа вообще не может отнять младенца или делает это внезапно, не думая о том, что младенца следует отучать от груди постепенно».
На это важно обратить внимание, так как на курсе лекций, посвященных аддикциям, Клод Эсканд говорил о том, что слияние с ребенком первая должна оставить мать. Мать должна оставить позицию кормящей матери и начать оплакивать эту утрату. Мать должна принять, что есть другие способы общения с ребенком. Сначала мать оплакивает траур, а потом она способна помочь прожить эту утрату ребенку. В случае недостаточного сопровождения матерью своего ребенка, в период сепарации или отлучения от груди, может происходить нарушение, и тогда на место инкорпорации не приходят другие способы присвоения объекта. Поглощая грудь, ребенок поглощает ее как целое, грудь проявляется в своей тотальности. Одним из опытов отлучения от груди, является инкорпорация пустоты, как меланхолический способ защиты. Если ребенка не поддерживают, он всегда инкорпорирует и поглощает тотальный объект.
Список литературы:
1. Винникотт Д. Маленькие дети и их матери / перевод на русский язык М.Н. Тимофеева // издание Независимая фирма “Класс”, 1998.
2. Торок М. Болезнь траура и фантазм чудесного трупа // Французская психоаналитическая школа. Сборник статей. – СПб.: Питер, 2005.
3. Ференци Ш. "Теория и практика психоанализа". Пер. с нем. И.В.Стефанович, М.: Университетская книга, Per Se, 2000 г.
4. Фрейд З. Скорбь и меланхолия // Том 3. Психология бессознательного. – Пер. с нем. А.Боковикова – М.: ООО «Фирма СТД», 2006.