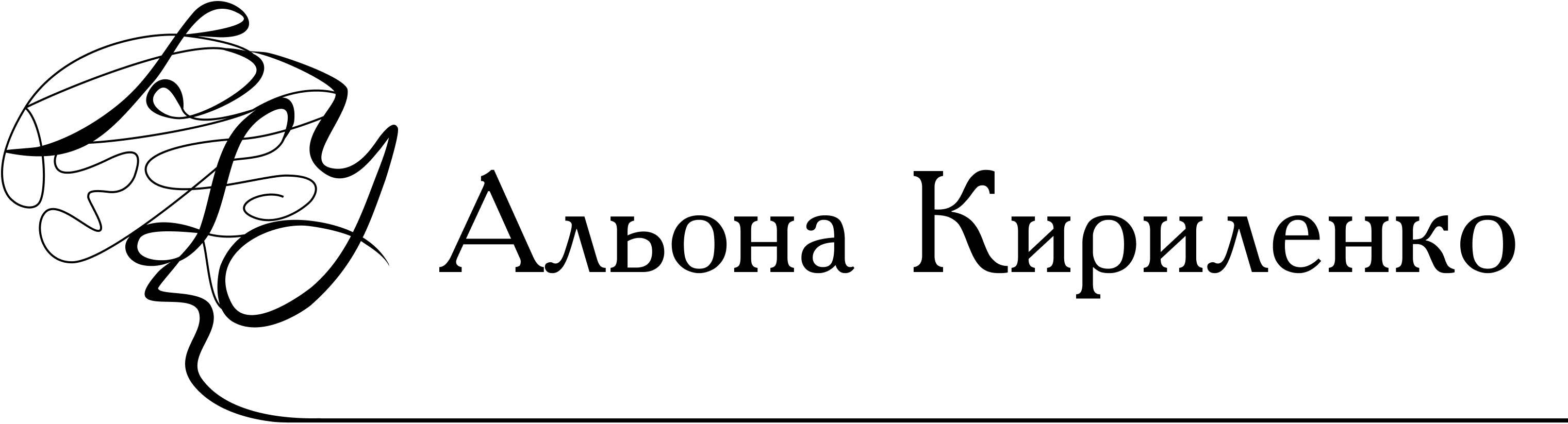
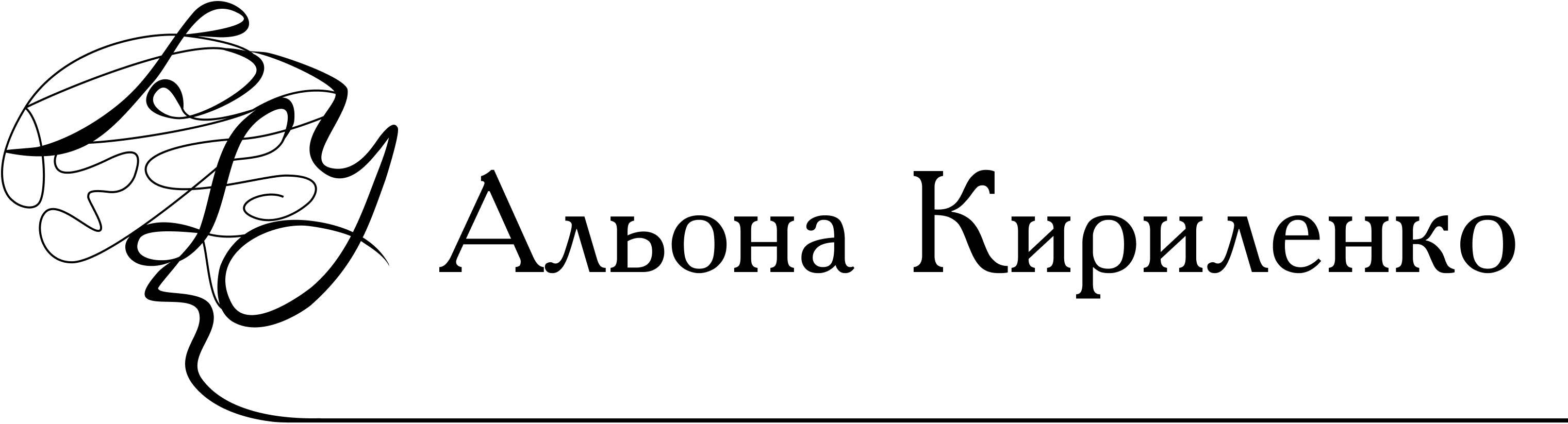

Хорст-Эберхард Рихтер в своей книге “Родители, ребенок и невроз. Психоанализ детской роли” , опираясь на представления З.Фрейда пишет о том, как родители захватывают ребенка и подчиняют его своим желаниям и проекциям. Фрейд раскрыл другую сторону этого вопроса, он больше делал акцент на идентификациях и их значении на формирование Я и Сверх-Я. Рихтер пишет: “Бесспорно предположение Фрейда и его учеников о том, что уже с раннего детства ребенок выказывает активное стремление к производству имитаций и идентификаций и что эти процессы важны для формирования характера, особенно для заимствования родительских невротических конфликтов и симптомов. Однако в подавляющем большинстве исследований по детской идентификации гораздо меньше рассмотрены следующие вопросы. Насколько активно сами родители участвуют в возникновении идентификаций у ребенка? Могут ли они повлиять на степень и выбор данных процессов? Может быть, для понимания многочисленных модификаций, в которых мы наблюдаем детские идентификации, необходимо задаться вопросом об активном влиянии родителей?” [4].
Напомню, что Фрейд писал, что “характер Я является осадком катексисов объектов, от которых пришлось отказаться” и выделял три способа идентификации:
1. Идентификация как первоначальная форма эмоциональной связи с объектом (первичная идентификация);
2. Идентификация, как замена либидинозной связи с объектом, благодаря регрессии и интроекции объекта в Я (нарциссическая идентификация);
3. Заимствование симптомов посредством идентификации, которое происходит без особой эмоциональной связи. Фрейд говорит о «психическом заражении», где «идентификация совершенно не учитывает объектное отношение», и приводит в качестве примера распространение истерических припадков в женских пансионах (истерическая идентификация).
Но Рихтер добавляет, что посредством идентификации ребенок может заимствовать не только отдельные невротические симптомы – он может скопировать всю структуру психологической защиты родителей и перенять остальные функции их Я с соответствующими количественными и качественными характеристиками. Тот факт, что идентификация может носить даже половой характер, показал Фрейд на примере мужского гомосексуализма, где мы видим идентификацию с полом матери. Также Фрейд писал об нарциссической идентификации при меланхолии, которая предполагает интроекцию объекта в Я.
Говоря о влиянии родителей на идентификационные процессы у детей Рихтер описывает основные три модели типичных механизмов действия травмирующих родительских влияний:
1. Родительское запугивание способствует патогенному подавлению влечений.
2. Родительское совращение напрямую способствует патогенному возбуждению влечения, тем самым одновременно косвенно ослабляя регулятивные функции эго.
3. Родительское «попустительство» напрямую способствует патогенному нарушению созревания Я, косвенно приводя к захлестыванию влечениями.
Рихтер видит доказательства, что родители оказывают активное влияние на способ идентификации с ними, прежде всего в том, как родители совершенно по-разному реагируют на отдельные элементы своего «зеркального изображения», которые «показывает» им имитирующий их ребенок. Если ребенок посредством идентификации заимствует черты, которые родители принимают у себя или даже считают весьма желательными для своего «Я-идеала», то они могут культивировать их в малыше. Но если ребенок копирует характеристики, которые родители не желают в себе видеть и, возможно, даже усиленно подавляют, они будут склонны его за них наказывать. Таким образом, они усиливают или тормозят функцию идентификации ребенка в зависимости от того, предъявляет он им положительный или отрицательный аспект их собственной самости.
Рихтер пишет, что назначить ребенку роль замены другого партнера либо замены аспектов собственной самости родителей подталкивает их собственный бессознательный конфликт. В таком особом представлении – внутри бессознательных родительских фантазий – ребенок должен выполнять функцию освобождения родителей от конфликта. Механизмы, посредством который становится возможно реализовать такую замену Рихтер видит в переносе и нарциссической проекции.
Рихтер использует перенос в том значении, которое давал Фрейд, когда в ходе лечения анализируемый склонен направлять на психоаналитика те желания, отрицательные импульсы, страхи и т. д., которые изначально были связаны с отцом, матерью, братьями и сестрами. Также стоит напомнить, что перенос всегда сопровождается бессознательным «навязчивым повторением» и является вездесущим, он может проявиться в любых отношениях. Рихтер пишет: “Перенос также обнаруживается в эмоциональных отношениях родителей и ребенка. Взрослые с хроническими невротическими конфликтами часто бессознательно вызывают к жизни давнюю травмирующую ситуацию с помощью своего ребенка. Они проявляют к нему чувства, объектом которых фактически считают не его, а другого, возможно, давно исчезнувшего партнера. Ни в чем не повинный ребенок должен выступать в качестве заместителя такой фигуры из родительской биографии. Ему навязывается эта роль. Такие родительские переносы на ребенка благоприятствуют появлению у него индивидуальных характеристик, соответствующих или очень напоминающих характеристики партнеров, от которых отец или мать бессознательно стремятся навести мост к ребенку” [4].
При нарциссических проекциях речь идет о том, как родители «видят насквозь» черты характера или устремления ребенка, которые на самом деле возникают из их собственных конфликтов. Только на этот раз взрослые «путают» ребенка не с другим партнером, а с самим собой. Неосознанно они ищут в ребенке аспекты собственной самости. Например, повседневная нарциссическая проекция заключается в том, что родители непременно надеются на наверстывание ребенком упущенных ими возможностей. Они воспринимают ребенка как улучшенную копию собственной самости и хотят компенсировать его успехами свои неудачи. В крайних случаях живущая в родителях конфликтная напряженность настолько сильна, что они – пусть на уровне бессознательного – считают себя обязанными контролировать и регулировать весь уклад жизни ребенка, как будто бы тот всегда выступает лишь их заместителем, выбирая их собственное счастье либо вину.
Два разных процесса, перенос и нарциссическая проекция, отсылают к способу выбора объекта по опорному (примыкающему типу) и по нарциссическому типу. Первому соответствует выбор объекта по прообразу матери, в то время как второму - соответствует выбору объекта по прообразу самих себе. Т.е. если родители используют “перенос” на детей (ребенок как заменитель другого человека) мы можем говорить, что ребенок воспринимается как отдельный, а в случае нарциссической проекции - ребенок не воспринимается отдельным, он является продолжением родителя.
Если подвести итоги, то можно сказать, что бессознательные родительские фантазии имеют решающее значение для патогенного воздействия на ребенка. В этих фантазиях выражаются направленные на него эмоциональные ожидания. Составленное из этих ожиданий структурированное целое приводит к назначению для ребенка определенной роли, понимаемой более узко, чем социально-психологическая роль. Ее правила диктует родительская потребность разрешить с помощью ребенка собственный конфликт. В своей роли ребенок должен представлять другого партнера – в основном из детства родителей – либо аспект их собственной самости. Какое из двух ожиданий превалирует в родителях, ясно по тому, осуществляют ли они на ребенка перенос или нарциссическую проекцию. Замещение, объектное или нарциссическое, является важной особенностью роли ребенка.
Рихтер выделяет две основных группы ролей, которые можно подразделить в зависимости от ответа на вопрос: каких именно партнеров либо какие особые аспекты родительской самости заменяет ребенок?
Выделяют две группы ролей:
1) Ребенок как замена другого партнера:
а) ребенок как замена одного из родителей;
б) ребенок как замена одного из супругов;
в) ребенок как замена одного из братьев или сестер;
2) Ребенок как замена аспекта собственной (родительской) самости:
a) ребенок как точная копия родителя;
б) ребенок как замена идеальной самости;
в) ребенок как замена негативной идентичности (козел отпущения).
Он добавляет, что на практике роли смешиваются. В отцовских фантазиях переноса дочь одновременно оказывается сестрой, матерью и частично даже любовницей. Достаточно редко за ребенком закреплено только одно значение переноса или – в случае нарциссических проекций – проецируется лишь один аспект собственной самости. Тем не менее преобладают случаи, когда один аспект нарциссической проекции сильно перевешивает. Поэтому при распределении отношений между родителем и ребенком можно проследить лейтмотив, что не исключает дополняющего присутствия других аспектов.
Я предлагаю более детально рассмотреть две роли: ребенок как замена одного из супругов и ребенок как замена идеальной самости.
Ребенок как замена одного из супругов.
Если в ребенке ищут черты супруга, а родительское поведение не лишено инфантильных черт, то для описываемого типа роли характерно, что установленные партнерские отношения с ребенком больше соответствуют картине супружеских отношений, чем детско-родительским.
Родители ищут в ребенке замену супруга когда партнер отсутствует или отношение супругов друг к другу омрачено. Вдовцы, вдовы или несчастливые в браке люди зачастую вступают в исключительно тесную связь со своими детьми и вкладывают в эту привязанность часть предназначенной супругу любви, оставшейся невостребованной. Но это не значит, что за всяким распадом брака или сложностей в отношениях следует ненормальная близость между между матерью и сыном или отцом и дочерью. Основным условием всегда оказывается эмоциональная готовность матери или отца выбирать в качестве замещающего партнера именно ребенка, а не искать нового, подходящего по возрасту супруга или, если это невозможно, отказаться от соответствующей потребности. Эта эмоциональная готовность обычно связана с психическим нарушением созревания такой матери или отца. Они не чувствуют себя полностью готовыми к требованиям зрелых партнерских отношений и поэтому ищут убежища у ребенка.
Для некоторые женщины, которые находятся под влиянием “комплекса мужественности”, маленький мальчик представляет исполнение их собственных желаний, речь о символическом равенстве пенис = ребенок. Рихтер пишет: “Такие матери особенно довольны обладанием сыном, рассматривая его как “частичку себя”, как мужское продолжение и усиление себя. Фантазия о том, что сын принадлежит им целиком и полностью, может особенно усиливать фиксацию на нем, особенно когда отношения с мужем разочаровывают.” [4]
Проявления родительского поведения по отношению к находящемуся в роли супруга ребенку значительно различаются между собой. Мать может занимать по отношению к возлюбленному сыну как более активную, так и более пассивную позицию – в соответствии со структурой своей личности.
Активная позиция матери проявляется в гиперопеке, избыточном контакте, которое нередко может переходить в инцестуонную связь или инцест.
Рихтер также пишет о запрете матерями на проявление сексуальности: “Решительный запрет на проявления сексуальности может иметь множество причин. В большинстве случаев сама мать страдает от неразрешенного полового конфликта. В подавлении детской сексуальности ребенка отражается и страх перед собственной сексуальностью. Мать должна побороть в себе возникающий из-за интимной привязанности к сыну соблазн и проецирует эту опасность на него. Сюда же может присоединиться боязнь потерять сына из-за конкуренток. Фантазия выдает себя, когда такие матери пытаются вызвать в ребенке недоверие и даже отвращение к женщине в целом” [4].
Если мать представляет собой более пассивный тип, то ее позиция любовницы меньше выражена в модели активной гиперопеки и ревнивого обладания сыном, чем в форме заигрывающей уступчивости. Рихтер пишет: “При этом мать так явно желает видеть сына в роли защищающего и утешающего ее «маленького рыцаря», что нельзя точно различить, хочет она больше играть роль подруги-любовницы или дочери-любовницы. Но в любом случае чем больше в ее отношении перевешивает пассивный компонент, тем больше она стремится вынудить сына к роли лидера. Такие матери с гордостью сообщают, что их отпрыск уже ведет себя как маленький джентльмен. Эти матери особенно счастливы, когда сыновья начинают проявлять ревность в раннем возрасте. При этом они испытывают такое же чувство женского самоутверждения, как если бы наблюдали за своим супругом” [4].
Рихтер добавляет, что как только “пострадавший родитель” начинает активно и разрушительно вмешиваться, претендуя на роль равноправного партнера во внутрисемейной игре, роль ребенка претерпевает изменения. Функция чада в качестве замены партнера для одного из родителей пересекается с ролью яблока раздора или объекта спора внутри конфликта взрослых. В соответствии с этим социальное положение ребенка в семье следует считать ролью эквивалента супруга только тогда, когда однозначно доминирует требующий этой функции родитель.
Я описала случай когда мать устанавливает с ребенком отношения как с партнером, но аналогичная ситуация может быть и случаи отца и дочери.
Ребенка как продолжение собственной самости.
Здесь ребенок не является заменой другого, а изначально представляет собой аспект самости родителя. С помощью нарциссической проекции родители ищут в ребенке проявление аспектов собственной самости. Ребенок вследствие нарциссических проекций должен заменить аспекты родительской самости. Это означает, что он вместо родителей должен воплотить собой нечто, какой-то аспект материнской или отцовской самости, который они не могут переносить, а следовательно – хотят экстернализировать. Или же ребенок обязан воплотить идеальный аспект их самости, определяемый родительским Я-идеалом.
Исходя из известных типов нарциссического выбора объекта, предложенных Фрейдом в очерке «О нарциссизме», Рихтер предлагает изменить их применительно к отношениям родителей и детей следующим образом.
В ребенке ищут следующее:
а) то, кем человек является (себя самого);
б) то, кем человек являлся;
в) то, кем человек хотел бы являться;
г) личность, бывшую частью его собственной самости.
В дополнение к классификации Фрейда предлагается еще один тип:
д) то, кем человеку запрещено являться.
Более подробно я опишу вариант отношений, когда родители видят в ребенке “того, кем сами хотели бы являться”. При этом ребенок должен вместо родителей соответствовать требованиям их Я-идеала. Он обязан создать вместо не осуществленного родителями фантома их идеальной самости реальность, которую они затем с помощью идентификаций смогут использовать для повышения чувства собственной значимости.
Ребенок как замена идеальной самости.
Позитивной родительской потребностью является то, чтобы ребенок решал жизненные проблемы лучше, чем они сами. Это индивидуальное выражение стремления человечества к лучшей жизни для будущих поколений. А социологи и философы культуры справедливо опасаются последствий ослабления данного устремления. Но вполне возможно, что проекция собственного Я-идеала на детей вытекает лишь из необходимости отца или матери избавиться от гнетущего чувства вины. Не ребенок должен лучше справляться со своими проблемами, а сам родитель хочет продвигаться с его помощью в собственном конфликте.
Родители ожидают «исцеления» ребенком, от которого могут с величайшим напором требовать обязательного достижения целей, в которых сами потерпели неудачу. Родители, исходящие из потребности найти в ребенке осуществление своего Я-идеала, с самого начала могут рассматривать ребенка в этом свете, даже если объективный наблюдатель никоим образом не может подтвердить в нем присутствие тех признаков, про которые отец с матерью думают, что уже их нашли.
Родители требуют его достичь успеха, чтобы затем посредством идентификации компенсировать собственную неудачу достигнутым им успехом. Проекция идеального аспекта собственной самости на ребенка может осуществляться в двух различных формах в зависимости от того, вкладывают ли родители в свою проекцию больше позитивного аспекта Я-идеала в узком смысле или больше отрицательного, то есть запретного аспекта Сверх-Я.
Во многих случаях в родительских ожиданиях от ребенка одновременно обнаруживаются оба «лица»: Я-идеал и Сверх-Я. Ребенок должен реализовать вместо родителей их недостаточно удовлетворенные нарциссические амбиции и в то же время помочь заглушить их угрызения совести своей добродетельностью. Если для родительской проекции важен разрешающий Я-идеал, то ребенку навязываются нарциссически окрашенные идеалы.
Детям предписывается утерянная родителями в обществе роль. Однако диапазон вариаций идеалов, которые можно объединить собирательным термином «стремление к престижу», довольно обширен. Иногда ребенок должен получать или восстанавливать вместо родителей звания, титулы, владения, а иногда – осуществлять родительские амбиции посредством образования, «аристократичного образа жизни» или в виде снимающегося в кино, катающегося на коньках, занимающегося музыкой “звездного ребенка”.
Рихтер выделяет основные последствия влияния этой роли:
- несоответствие возможностей и требований приводит к травматическому эффекту;
- неспособность удовлетворить завышенные ожидания отца с матерью ведут к появлению представления “Я плохой!” и как следствие появляются тревога и чувство вины, затем и необходимость в наказании;
- возникновении депрессии и желания суицида;
- нарушение интеграции личности;
- потребность сделать себя сверхзависимыми даже тогда, когда родителей нет на свете, от других людей или внешних условий (В этой связи говорится об экстернализации Я-идеала. Такой человек с детства не научен понимать себя иначе, чем управляемым и оцениваемым другими, чья нарциссическая проекция как бы придает смысл его существованию).
Я приведу цитату Рихтера касательно желания суицида: “Ребенок интернализирует чрезмерные родительские требования. Таким образом, сформированная нарциссической проекцией родителя роль становится неотъемлемой частью детского характера. Возможно, ребенок становится жертвой роковой интроекции потому, что нет другой уравновешивающей родительской фигуры, которая могла бы защитить его от односторонней идентификации. Однако после завершения процесса интернализации ребенок чувствует, что не может реализовать идеальные качества, составляющие суть этой роли. Чувство вины провоцирует агрессию, направленную против собственного Я. Напряжение становится настолько невыносимым, что ненависть к самому себе может вылиться в суицид” [4]. То, что описывает здесь Рихтер мне очень напоминает механизм меланхолии, только при этом не тень объекта падает на Я, а его требования, направлены на ребенка с помощью нарциссической проекции.
Рихтер пишет, что само желание того, чтобы ребенок достиг более высоких целей, чем отец или мать, может оказаться для него полезным настолько, насколько это желание согласуется с детскими возможностями и находится в соответствии с признанными в социальной группе идеалами. Важно лишь то, чтобы условия идеала не потребовали от ребенка достижений, превышающих его способность к сублимированию.
Термин «самость» используется здесь в связи с интерпретацией Фрейда при рассмотрении «нарциссического выбора объекта». Его предпочтение понятия «Я» представляется оправданным, поскольку в нарциссическую проекцию на ребенка может включаться Оно родителей, отчасти когда они желают от ребенка отображения собственных подавленных импульсов влечения. В этом случае было бы ошибочным говорить об экстернализации какого-то аспекта Я.
Следует четко определить, в каком смысле понятие роли ребенка в психоанализе необходимо отличать от более обобщенного понятия роли в социальной психологии.В данном исследовании под ролью ребенка подразумевается структурированная совокупность родительских бессознательных фантазий ожидания в той мере, насколько они предполагают выполнение ребенком определенной функции.
Список литературы:
1. Бенвенуто С. Фрейд: нарциссизм, печаль, меланхолия (перевод Н. Харченко) // «Психоаналіз.Часопис». – Киев: ПВНЗ «МІГП», 2019. – №2 (24). – с. 91.
2. Лесур С. «Страсть по детству» как препятствие рождения субъекта // Психоаналитический вестник. – 2008. – с.101-109.
3. Миллер Алис Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я, редактор А.Б. Орлов, издательство “Прогресс”
4. Рихтер Хорст-Эберхард. Родители, ребенок и невроз: психоанализ детской роли. (электронная книга)
5. Фрейд З. О введении понятия нарцизм // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3. Психология бессознательного. – М.: ООО «Фирма СТД», 2006.
6. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции / Пер. с нем. Я.М. Когана. - M.: Академический проект, 2018. - 477 с. - (Психологические технологии).
7. Эльячефф Каролин, Эйниш Натали ДОЧКИ-МАТЕРИ. Третий лишний? -Перевод с французского О.Бессоновой под редакцией Н. Поповой. М.: Наталья Попова, «Кстати», Издательство «Институт общегуманитарных исследований», 2016 - 448 с.