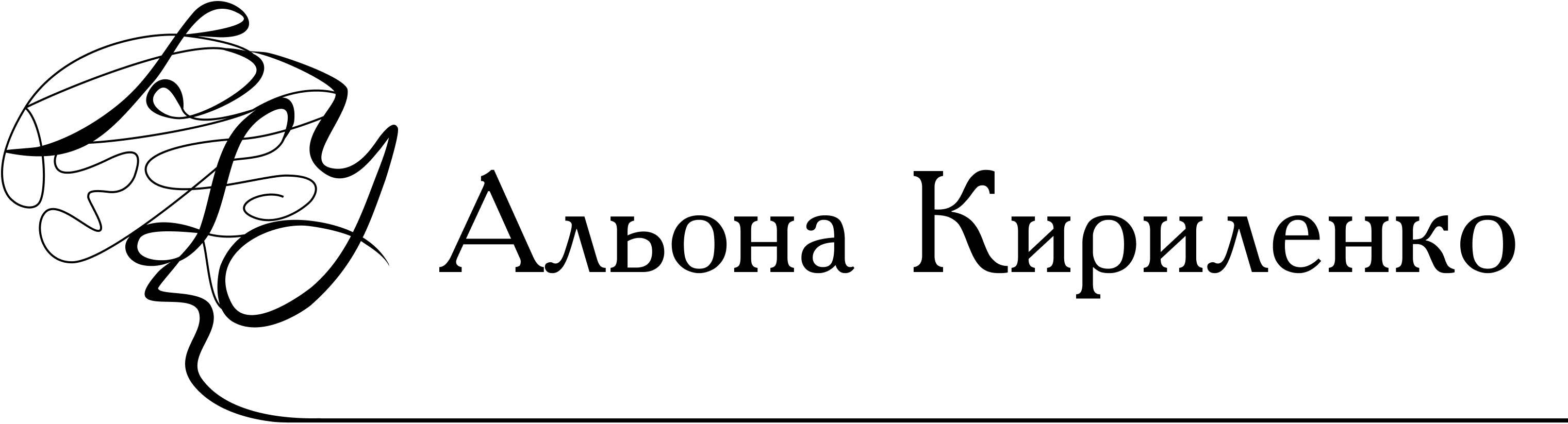
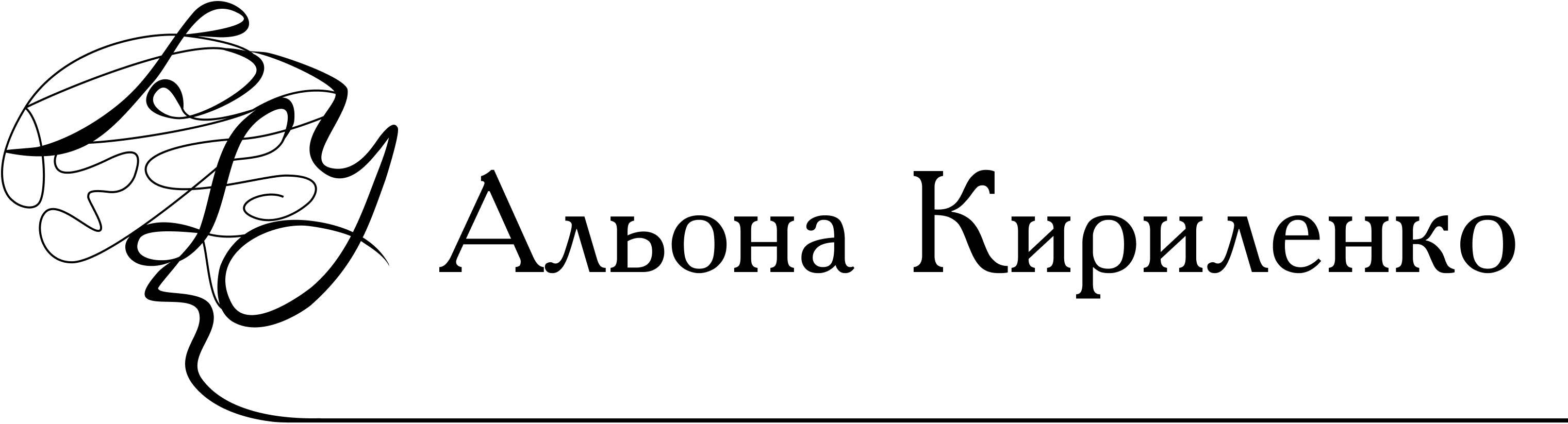

В этой статье я хочу рассмотреть автобиографический роман “Обещание на рассвете” известного французского писателя Ромена Гари, в котором он раскрывает историю его жизни и его взаимоотношений с матерью. Эта книга о безграничной материнской преданность, всепоглощающей любви и вере матери в своего сына, которая больше похожая на безумные и недостижимые фантазии относительно будущего своего сына, Ромена Гари. Читая об отношениях Ромена Гари и его матери я вспоминаю о таких терминах Каролин Эльячефф, как “матери в большей степени, чем женщины” и о “материнском захватничестве”. Эльячефф предлагает применяет термин “матери в большей степени, чем женщины” к тем женщин, чья самореализация исключительно в материнской функции затянулась, не завершилась естественным образом и перетекает в следующие периоды жизни ребенка, выходя за рамки того периода, когда это необходимо ребенку. Такие женщины променяли супружескую сексуальность на чувственность материнства. Каролин Эльячефф пишет: “Невроз материнской любви представляет собой патологическую привязанность, состоящую в неодолимом желании отдать ребенку всю себя, что доставляет тем более сильное удовольствие, чем сильнее зависимость. Максимум возможного наслаждения достигается за счет бесконечной самоотдачи, взамен мать получает от ребенка такое же бесконечное восполнение самой себя” [18].
Мысль Эльячефф касательно “восполнения самой себя” за счет ребенка я буду развивать и с точки зрения других авторов, таких как Бенно Розенберг, который говорит о “нарциссическом инвестировании” и Хорст-Эберхард Рихтер, который пишет о нарциссических проекциях родителей, а также Алис Миллер, которая говорит о нарциссическом злоупотреблении.
Предлагаю рассмотреть одну сцену, чтобы увидеть зарождение идеи о том чтобы положить мир к ногам матери. Ромен Гари пишет о том времени, когда наличие еды в доме зависело от удачной торговли матери. “Вот уже тринадцать лет одна, без мужа, без любовника, она отчаянно боролась, чтобы заработать на жизнь: на масло, обувь, одежду, квартиру, бифштекс на обед, тот самый бифштекс, который ежедневно торжественно подавался мне на тарелке как символ ее победы над судьбой. По возвращении из лицея меня ждал бифштекс: пока я ел, мать стояла и умиротворенно смотрела на меня, как собака, выкармливающая своих щенков” [3]. Мать убеждала сына что она любит только овощи и никогда не притрагивалась к мясу. Но однажды он увидел, как мать кусочком хлеба вытирала сальное дно сковородки после бифштекса он с ужасом смотрел на эту сцену, разрыдался и убежал.
“Мысль броситься под поезд и разом отделаться от своего стыда и беспомощности пронеслась у меня в голове, но почти тотчас же отчаянное желание изменить мир и когда-нибудь сложить его к ногам матери — счастливый, справедливый, достойный ее — вдруг прожгло мое сердце, и этот огонь я пронес через всю жизнь. Зарывшись лицом в ладони, я отдался своему горю, но слезы, так часто приносившие мне облегчение, на этот раз не утешили меня. Непереносимое, болезненное чувство обездоленности, беспомощности охватило меня; по мере того как я рос, это детское чувство обездоленности и смутная устремленность к неведомому не только не прошли, но и росли вместе со мной и понемногу сделались потребностью, которую уже не в силах были утолить ни женщины, ни искусство” [3].
Как мы видим такая жертвенность матери стала для Ромена непосильной ношей в виде чувства вины, от которой невозможно было избавится даже после ее смерти. Забегая немного наперед, я хочу привести цитату из конца книги, чтобы продемонстрировать из слов Ромена как на него повлияла такая забота матери: “Откровенно говоря, я не вижу ничего в своих жалких усилиях, что могло бы оправдать такую награду. То, что я пытался и что мне удалось сделать, смехотворно, жалко, ничтожно по сравнению с тем, чего ждала от меня мать и чему учила, рассказывая о моей стране” [3].
В этой цитате речь о военной награде, которую ему вручил сам генерал де Голль. Т.е. можно сказать немного по другому, что достижения Ромена смехотворны и ничтожны, потому что они не могут покрыть то чувство долга и вины, которые он испытывал перед своей матерью. Жертвенность матери не была бескорыстной, Ромен должен был заплатить ей своими достижениями, которые она регулярно ему озвучивала и при этом была невозмутима несоответствием своих ожиданий и возможностей сына.
Далее я предлагаю рассмотреть цитаты Ромена, где он пишет о попытках матери найти и раскрыть таланты сына. Что касалось будущего Ромена у его матери не было сомнений, это было абсолютная уверенность в успехе, что он станет офицером, героем, дипломатом, писателем, это было знание не имеющее сомнения. Мать подбирала ему те занятия, которые сама считала перспективными, не обращая внимания на желания сына. Ромен Гари пишет об этом с характерной для него ноткой юмора: “История со “скрипачом-виртуозом” обернулась для нее крупным разочарованием, и я чувствовал себя страшно виноватым. Это было недоразумение, которое мамочка отказывалась понимать. Многого ожидая от меня, мать искала чудесный кратчайший путь, который бы привел нас с ней к славе и поклонению толпы”[3].
В другом месте он пишет: “Я чувствовал, что сильно огорчил мать, не оправдав ее надежд на музыку, она ни разу больше об этом не вспоминала, а ей, признаться, частенько недоставало такта, так что подобная сдержанность, бесспорно, говорила о скрытом и глубоком разочаровании. Не реализовав своих артистических амбиций, она рассчитывала воплотить их во мне. Я, со своей стороны, решил сделать все возможное, чтобы она прославилась и снискала признание как актриса моими стараниями, и после долгого колебания между живописью, сценой, пением и балетом я наконец остановил свой выбор на литературе, которая казалась мне последним пристанищем для всех, кто не знает, куда податься” [3].
Выходя из слов Ромена мы можем подтвердит наличие нарциссической проекции матери на сына, о которой пишет Рихтер: “Родители, исходящие из потребности найти в ребенке осуществление своего Я-идеала, с самого начала могут рассматривать ребенка в этом свете, даже если объективный наблюдатель никоим образом не может подтвердить в нем присутствие тех признаков, про которые отец с матерью думают, что уже их нашли. Родители требуют его достичь успеха, чтобы затем посредством идентификации компенсировать собственную неудачу достигнутым им успехом” [19].
Ромен был проницательным, он понимал связь материнских требований с ее собственной судьбой. Она не стала великой актрисой, и теперь эту славу должен достичь ее сын. Ромен знает историю, что ради него мать бросила театр и на мой взгляд, это еще один фактор, который усиливает его чувство вины. Он теперь должен вернуть матери то, от чего мать вынуждена была отказаться ради сына. И как мы сможем увидеть из требований матери речь идет о славе. Один из коллег матери сказал Ромену: “Вашей матери следовало закончить консерваторию; к сожалению, жизнь сложилась так, что ей не удалось раскрыть свой талант. К тому же, молодой человек, после вашего рождения ее уже ничто, кроме вас, не интересовало” [5].
Итак, мы видим мать, которая отказалась от карьеры актрисы после рождения сына и, вероятно, это сыграло важную роль в истории этой женщины и ее сына. Не реализовав себя, она перенесла все свои ожидания на сына. И в результате мы увидим то, о чем пишет Рихтер: “При нарциссических проекциях взрослые «путают» ребенка не с другим партнером, а с самим собой. Неосознанно они ищут в ребенке аспекты собственной самости” [12]. В Ромене мать видела того, кем сама хотела являться. А Ромен в свою очередь должен соответствовать требованиям Я-идеала матери. Рихтер пишет об этом так: “При этом ребенок должен вместо родителей соответствовать требованиям их Я-идеала. Он обязан создать, вместо не осуществленного родителями фантома их идеальной самости, реальность, которую они затем с помощью идентификаций смогут использовать для повышения чувства собственной значимости” [12].
То, что Рихтер называет нарциссической проекцией Алис Миллер называет нарциссическом злоупотреблении. Она говорит, что нарциссическое злоупотребление является одним из наиболее необычных форм материнского “захватничества”. Она пишет: “Родительские и, в особенности, материнские «нарциссические злоупотребления» собственным ребенком представляют собой самопроецирование родителей на сына или дочь, чьи дарования используются не ради их развития, но ради удовлетворения потребности в общественном признании одного или обоих родителей” [18]. Каролин Эльячефф пишет: “Материнский захват и собственничество проявляется здесь в наиболее классической форме - отказе разделиться”.
И это очень важно, что пишет Эльячефф об отказе разделиться, так как хоть и разные авторы по разному называют этот феномен использования детей ради собственного нарциссического удовлетворения, общим является то, что ребенок не воспринимается отдельным, он всегда остается лишь частью родителя.
Бенно Розенберг пишет о нарциссической инвестиции при меланхолии, но мне кажется, мы можем использовать его слова и в нашем случае. Ведь мы видим, что мать инвестирует себе посредством сына: “Инвестировать нарциссически объект означает инвестировать себя самого посредством объекта, или же, если можно так выразиться, инвестировать себя самого в зеркале объекта. Если все происходит таким образом, то дезинвестировать объект означает дезинвестировать самого себя: признать потерю объекта означает признание потери самого себя” [13].
Мы увидели намерение матери воплотить в Ромене все то, что ей не удалось. Но справедливости ради отметим желание самого Ромена исполнять желания матери, он был готов на все лишь бы не огорчать свою мать, чтобы сделать все, что она желает и посвятит этому всю свою жизнь. Вот что он пишет о своей любви к матери: “В глубине души мы прекрасно понимали, какие имена нам нужны, к сожалению, все они уже были разобраны. Гёте было занято, Шекспир тоже, равно как и Виктор Гюго. И, однако, именно таким, как они, я хотел бы стать для нее, именно это я и хотел бы ей подарить. Часто, сидя за столом в коротких штанишках и глядя на нее, я думал, что мир слишком тесен, чтобы вместить всю мою любовь” [3].
Не только любовь сына была чрезмерной, но и мать не была ограничена в своей любви к сыну. Когда у Ромена сложились первые отношения с девушкой, она ему сказала, что в его жизни больше не будет женщины, которая любила бы его так, как его мать. Ромен пишет: “Это уж точно. Она была права. Но тогда я еще не понимал этого. Я почувствовал это только к сорока годам. Плохо и рано быть так сильно любимым в юности, это развивает дурные привычки. Вы думаете, что это пришло. Верите, что любовь ожидает вас где-то, стоит только ее найти. Вы полагаетесь на нее. Ищете, надеетесь, ждете. Вместе с материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет. Поэтому до конца своих дней вы вынуждены есть всухомятку. Позже всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятиях, вы понимаете, что это не то. Вы постоянно будете возвращаться на могилу своей матери, воя как покинутый пес. Никогда больше, никогда, никогда! Восхитительные руки обнимают вас, и нежнейшие губы шепчут о любви, но вы-то знаете. Вы слишком рано прильнули к источнику и выпили его до дна. Когда вас вновь охватывает жажда, вы вольны бросаться куда угодно, источник иссяк — остались только миражи. С первым лучом зари вы познали истинную любовь, оставившую в вас глубокий след. Повсюду с вами яд сравнения, и вы томитесь всю жизнь в ожидании того, что уже получили. Я не говорю, что надо помешать матерям любить своих малышей. Но уверен, что было бы лучше, если бы они любили кого-нибудь еще. Будь у моей матери любовник, я не проводил бы свою жизнь, умирая от жажды у каждого фонтана. На свою беду, я знаю себе цену” [3].
В этих слова Ромена можно услышать призыв к третьему, к тому, кто смог бы разделить их с матерью; к тому, кто смог бы защитить от всепоглощающей любви матери; к тому, кто бы мог запретить Ромену желать в сторону матери. Но в случае матери Ромена мы видим то, что писала Эльячефф, она променяла супружескую сексуальность на чувственность материнства. И это отсутствие мужа, отсутствие интереса к мужчинам еще больше усложнило жизнь Ромена. Он пишет: “Она старалась держаться со мной как с мужчиной. Возможно, она торопилась. Ей был уже пятьдесят один год. Тяжелый возраст, когда единственная опора в жизни — ребенок” [3]. Тяжело представить, как это будучи ребенком, является опорой для взрослого, но этим все не ограничилось. Пока он Ромен был ребенком - он был опорой, но по мере взросления Ромена ждали и другие роли: мужчины, защитника для матери. Он описывает комическую и в то же время трагическую ситуацию из жизни, когда его мать однажды оскорбили: “В то время мне было всего четырнадцать лет, и я еще не мог заступиться за свою мать, хотя страстно того желал, поэтому я ограничился парой звонких пощечин, отвешенных почтенному коммерсанту, что и положило начало моей долгой и блистательной карьере раздатчика пощечин и снискало мне славу на весь квартал. В самом деле, с этого дня мать, очарованная моим подвигом, взяла за правило жаловаться мне всякий раз, когда чувствовала себя оскорбленной, даже если бывала не права, заканчивая свой рассказ рефреном: «Он думает, что меня некому защитить, поэтому можно оскорблять безнаказанно. Как он ошибается! Поди дай ему пару пощечин». Я знал, что почти всегда оскорбление было мнимым, ей повсюду мерещились оскорбления, и часто она первая оскорбляла людей без всякого повода, под влиянием своих взвинченных нервов. Но я ни разу не спасовал. Я был в ужасе от этих сцен, нескончаемые пощечины внушали мне отвращение, были невыносимы, но я исполнял свой долг. Вот уже четырнадцать лет, как моя мать жила и боролась в одиночку, и ей очень хотелось, чтобы ее “защищали”, чтобы рядом был мужчина” [3].
Мы можем сказать, что действительно мать Ромена часто сталкивалась с трудностями и ей не помешала бы помощь, но немного позже мы сможем убедится, что она активно принимает участие в том, чтобы не подпустить к себе мужчин. Рихтер, говоря о ребенке как замене одного из супругов, пишет : “Основным условием всегда оказывается эмоциональная готовность матери или отца выбирать в качестве замещающего партнера именно ребенка, а не искать нового, подходящего по возрасту супруга или, если это невозможно, отказаться от соответствующей потребности. Эта эмоциональная готовность обычно связана с психическим нарушением созревания такой матери или отца. Они не чувствуют себя полностью готовыми к требованиям зрелых партнерских отношений и поэтому ищут убежища у ребенка” [12].
Вероятнее всего, что в случае матери Ромена мы как раз и имеем дело с невозможностью и не готовностью к требованиям зрелых партнерских отношений, ведь как я уже сказала она была матерью в большей степени чем женщиной, ее не интересовали мужчины, она была асексуальна.
Для того, чтобы прокомментировать желание матери, чтобы сын ее защищал я приведу цитату Рихтера: “При этом мать так явно желает видеть сына в роли защищающего и утешающего ее “маленького рыцаря”, что нельзя точно различить, хочет она больше играть роль подруги-любовницы или дочери-любовницы. Но в любом случае чем больше в ее отношении перевешивает пассивный компонент, тем больше она стремится вынудить сына к роли лидера. Такие матери с гордостью сообщают, что их отпрыск уже ведет себя как маленький джентльмен. Эти матери особенно счастливы, когда сыновья начинают проявлять ревность в раннем возрасте. При этом они испытывают такое же чувство женского самоутверждения, как если бы наблюдали за своим супругом ” [12].
Но важно также отметить готовность и желание Ромена занять место партнера матери. Хотя он и сделает попытки выдать мать замуж, чтобы освободится, но успеха эта попытка не принесет.
Предлагаю рассмотреть еще одно событие в жизни Ромена, которые сыграло для него судьбоносное значение. Это было после обыска их квартиры, когда польские соседи пожаловались на нее в полицию. Она взяла с собой сына и вышла с ним во двор: “Звоня и стуча в каждую дверь, она просила соседей выйти на лестничную площадку. Обменявшись с ними взаимными оскорблениями — здесь мать всегда одерживала верх, — она прижала меня к себе и, обращаясь к собравшимся, заявила гордо и во всеуслышание — ее голос все еще звучит у меня в ушах:— Грязные буржуазные твари! Вы не знаете, с кем имеете честь! Мой сын станет французским посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актером драмы, Ибсеном, Габриеле Д'Аннунцио! Он…Она запнулась, подыскивая самую верную характеристику наивысшей удачи в жизни, надеясь сразить их наповал:— Он будет одеваться по-лондонски! Громкий смех «буржуазных тварей» до сих пор стоит у меня в ушах. Я краснею даже сейчас, вспоминая его, вижу насмешливые, злобные и презрительные лица — они не вызывают у меня отвращения: это обычные лица людей. Может быть, для ясности стоит заметить, что сегодня я Генеральный консул Франции, участник движения Сопротивления, кавалер ордена Почетного легиона, и если я и не стал ни Ибсеном, ни Д'Аннунцио, то все же не грех было попробовать. И поверьте, одеваюсь по-лондонски. Я ненавижу английский крой, но у меня нет выбора. Думаю, никакое событие не сыграло такой решающей роли в моей жизни, как этот раскат смеха на лестнице старого виленского дома номер 16 по улице Большая Погулянка. Всем, чего я достиг, я обязан ему как в хорошем, так и в плохом; этот смех стал частицей меня самого. Прижав меня к себе, мать стояла посреди этого гвалта с высоко поднятой головой, не испытывая ни неловкости, ни унижения. Она знала” [3].
Мы видим, что не только отказ от карьеры спровоцировал переместить свои ожидания на сына, но скромное социальное положение, бедность и унижения от других людей.
Ромен очень страдал от того, что не мог оправдать ожиданий матери, он не мог отделаться от чувства беспомощности. “Я часто спасался бегством на душистый дровяной склад — в свое убежище, — думая обо всем, чего ждала от меня мать, и долго и тихо плакал: я не представлял, как вернуться обратно. Потом, с тяжелым сердцем, я все же возвращался и выучивал еще одну басню Лафонтена — вот все, что я мог для нее сделать” [3]. Даже будучи тяжело больным, Ромена не пугала смерть, его беспокоило только то, что он оставить мать одну, так и не оправдав ее надежд.
Рихтер пишет, что такие чрезмерные требования являются не только источником сильных страданий, но и могут стать причиной суицида: “Ребенок интернализирует чрезмерные родительские требования. Таким образом, сформированная нарциссической проекцией родителя роль становится неотъемлемой частью детского характера. Возможно, ребенок становится жертвой роковой интроекции потому, что нет другой уравновешивающей родительской фигуры, которая могла бы защитить его от односторонней идентификации. Однако после завершения процесса интернализации ребенок чувствует, что не может реализовать идеальные качества, составляющие суть этой роли. Чувство вины провоцирует агрессию, направленную против собственного Я. Напряжение становится настолько невыносимым, что ненависть к самому себе может вылиться в суицид” [12].
Для нас очень важно то, что пишет Рихтер о “другой уравновешивающей родительской фигуре, которая могла бы защитить его от односторонней идентификации”, ведь так и произошло у Ромена, я уже приводила слова Ромена где он говорит, что было бы лучше, если бы его мать любила кого-то еще. У его матери не было мужа и не было любовников. В этой книге Ромен вспоминает об отце. О пишет, что родители расстались почти сразу же после его рождения, и всякий раз, когда он спрашивал об отце, тему сразу же меняли. Ромен знал, что его отец был женат и имел детей, они даже несколько раз виделись. Ромену было известно, что во время войны его отца, как еврея, казнили в газовой камере вместе с женой и двумя детьми. Но только в 1956 году он узнал потрясающую подробность о его трагической гибели. Его отец умер вовсе не в газовой камере, как ему говорили, а от ужаса, по пути на казнь, в нескольких шагах от входа. Ромен пишет : “Человек, умерший такой смертью, до той поры был мне чужим, но с этого дня он навсегда стал моим отцом” [3].
Жизнь матери Ромена было очень не простой и в тяжелые моменты ее сын был для нее источником ее сил: “Часто во время особенно капризной примерки мать выходила из салона, приходила в мою комнату, садилась напротив и, улыбаясь, молча смотрела на меня, будто пытаясь набраться куража и сил у источника своей жизни. Она молча выкуривала сигарету, потом вставала и отправлялась на бой” [3].
И нельзя отрицать, что ей было действительно тяжело и ей нужна была помощь, но напомню, что она сама активно принимала участие в том, чтобы не подпустить к себе мужчин. Вместо этого она “своим мужчиной, который должен ее защищать” сделала своего сына. Когда ее унижали ровесники Ромена, она сказала ему: “Слушай меня внимательно. В следующий раз, когда это случится, когда при тебе будут оскорблять твою мать, в следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках. Ты понимаешь?Я хочу, чтобы тебя принесли домой в крови, ты слышишь меня? Даже если у тебя не останется ни одной целой кости, ты меня слышишь? Запомни, что я сказала. С этого дня ты будешь защищать меня. Мне все равно, что они с тобой сделают. Самое страшное — другое. Ты умрешь, если будет надо” [3].
Она ожидала от сына, что он будет бится на смерть за ее честь, в то время как будучи взрослой женщиной не могла сама себя защитить от унижений и насмешек, а как я уже сказала раньше просила сына защитить ее и Ромен вынужден был ходить и раздавать пощечины.
Ромен очень часто видел как мать старается заработать деньги, он видел очень много ситуаций, когда его мать была унижена, да и он сам. Одной из таких ситуаций была когда мать Ромена была в слезах и отчаянии после банкротства ее предприятия по пошиву женских шляп сидела и смотрела как выносили их вещи. Он пишет: “Я впервые видел мать в отчаянии, видел, как она, по-женски беззащитная и побежденная, повернулась ко мне, прося помощи и защиты. В то время мне было около десяти лет, то есть я уже готов был взять на себя эту роль. [...]Встав как истукан перед шкафом или комодом, который поднимали сбиры, засунув руки в карманы и выпятив живот, я презрительно насвистывал, насмешливо глядя на их неловкие движения, эдакий настоящий мужчина, твердый как скала, способный защитить свою мать и плюнуть в них при малейшей провокации. Поза эта предназначалась не для оценщиков, а для моей матери, чтобы показать ей, что не следует волноваться, что у нее есть защитник, который вернет ей все это сторицею и ковер, и столик с гнутыми ножками в стиле Людовика XVI, и люстру, и трюмо красного дерева. [.....] Когда понадобилось освободить кресло, она радостно вскочила, не сводя с меня глаз, в то время как я продолжал кружить по пыльному паркету, показывая, что я по-прежнему здесь и что в конечном итоге ее главное сокровище уцелело” [3].
Но сцены с унижениями казались сущим пустяком по сравнению с той сценой, когда у матери Ромена случился приступ и он узнал о его мать болела сахарным диабетом. “Жуткий страх охватил меня. Ее посеревшее лицо, слегка свесившаяся голова, закрытые глаза и рука, скорбно прижатая к груди, стояли у меня перед глазами. Мысль, что она может умереть раньше, чем я совершу все, чего она ждала от меня, что она может покинуть землю прежде, чем я воздам ей справедливость….Я понимал, что должен торопиться и скорее создать бессмертный шедевр, который бы сделал меня самым юным Толстым всех времен и позволил бы немедленно наградить мать за ее труды, достойно увенчав ее жизнь. Я трудился не покладая рук” [3].
Он продолжает: “Во мне проснулась жажда справедливости к человеку, каким бы жалким и преступным он ни был, которая наконец-то толкнула меня к истокам моих будущих книг, и если правда, что это стремление болезненно родилось из моей сыновней любви, то все мое существо понемногу подчинялось ему, пока литературное творчество не стало для меня тем, чем является и по сей день, в высочайшие минуты аутентичности, — лазейкой, через которую пытаешься бежать от невыносимого, возможностью отдать душу, чтобы остаться в живых. При виде ее посеревшего лица с закрытыми глазами, склоненного набок, и руки, прижатой к груди, я вдруг впервые усомнился: а пристойно ли хотеть жить? Я тут же ответил себе на этот вопрос, быть может, потому, что его диктовал инстинкт самосохранения” [3]. Если болезнь матери, ее несчастье вызывает у Ромена сомнения о пристойности желания жить, то что происходит с желанием жить после ее смерти?
Мы еще раз можем убедится в том, насколько мать предана сыну и что никто, кроме ее сына, ни один мужчина не мог ее заинтересовать больше, чем сын. Когда они уже жили во Франции и мать была управляющей отеля, она очень заинтересовала одного художника, который поселился в этом отеле. Ромен пишет: “Мысль пристроить свою мать и тем самым освободить ее от житейских забот слилась у меня в голове с другой надеждой: возможностью наконец пуститься в мир приключений, не упрекая себя, что оставил без поддержки ту, которая дала тебе все” [3]. Ромен продолжает: “Мысль, что господин Заремба станет моим отчимом, вызывала во мне всяческие волнения. Бывали минуты, когда безграничную любовь, предметом которой я являлся, уже невозможно было выносить. Постоянно видеть себя в страстном и самозабвенном взгляде единственным, несравненным, наделенным всяческими достоинствами, с триумфальным будущим впереди было выше моих сил, ибо сам я давно уже довольно ясно и болезненно сознавал, что между этим величественным образом и действительностью была пропасть. Я не то чтобы «хотел бежать от ответственности, которую возлагали на меня в «будущем» окружавшие меня преданность и самопожертвование. Я решил осуществить все то, чего мать ждала от меня; я слишком любил ее, чтобы замечать всю наивность и несоразмерность ее идей. Мне тем более трудно было видеть их призрачность, что, убаюканный с детства обещаниями и рассказами о своем будущем, я часто путался и уже точно не знал, где мамина мечта, а где действительность. Главное, я уже не мог переносить подобной опеки. Если бы господину Зарембе удалось взять на себя часть бремени этой любви, то я бы вздохнул свободнее” [3].
Попытки выдать мать замуж увенчалась полным провалом. Его подростковый бунт не дал результата, уж слишком сильное было чувство вины: “Она плакала. Я старался оставаться спокойным, но, как всегда между нами, мне передались ее чувства, которые в свою очередь снова возвращались к ней, набирая силу с каждым возвратом по прелестной традиции любовных сцен. Мне хотелось крикнуть, что это ее последний шанс, что ей необходим мужчина рядом, что я не могу им быть, потому что рано или поздно уеду, оставив ее одну. Главное, я хотел сказать ей, что нет ничего такого, чего бы я не сделал ради нее, кроме одного — отказаться от своей личной жизни, от права располагать собой как мне заблагорассудится. Но по мере того как эмоции и противоречивые мысли обуревали меня, мне вдруг стало ясно, что в какой-то мере я пытаюсь отделаться от нее, от ее всеобъемлющей любви, от удручающего гнета ее нежности. Сколько раз мне представлялась возможность взбунтоваться и бороться за свою независимость, но я уже четко не различал, где кончается законная защита и где начинается жестокость” [3].
Франсуаза Кушар пишет: “Девочки существуют в материнских оболочках, потому что им кажется непереносимо предать материнскую любовь и так как это слишком дорого оплачивается чувством вины. Они терпеливо переносят «захват в плен» собственной личности, смиряются с участью быть дубликатом матери, но рассчитывают в один прекрасный день взять реванш, узурпировав такую же власть над собственными дочерьми”[18]. В этой цитате Франсуаза Кушар пишет о матерях и дочках, но тоже самое можно сказать и о Ромене и его матери. И на мой взгляд, Ромен все же отказался от своей личности, ведь ему было непереносимо предать материнскую любовь, ее жертвенность. Он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы “придать смысл жизни любимого человека”. И даже после ее смерти, как пишет Ромен, он одевается по-лондонски, ведь у него нет выбора, именно так хотела его мать.
Рихтер также пишет о возникновении чувства вины, если ребенок не может реализовать требования родителей: “Ребенок, который подвергается проекции идеальной самости, уже с раннего детства интроецирует родительские притязания. Неспособность удовлетворить завышенные ожидания отца с матерью провоцирует самовосприятие («Я плохой!»). Как следствие появляются тревога и чувство вины. Оно может накапливаться в таком объеме, что ребенок злыми проделками вынуждает родителя наказывать его. К такому поведению – на бессознательном уровне – его стимулирует осуществление ставших невыносимыми потребностей в самонаказании. Внешне детское поведение может выглядеть так, как если бы ребенок с сознательной хитростью оборонялся от предполагаемой роли, в то время как на самом деле он хочет наказать себя за то, что не смог ее выполнить. Он чувствует себя плохим и не успокаивается до тех пор, пока не убедит свое окружение в том, что он плохой” [12].
Однажды Ромену улыбнулась удача и его рассказ “Буря” был напечатан в еженедельнике “Гренгуар” на всю страницу и его имя жирным шрифтом “там, где полагается”. Он получил хороших гонорар, он написал матери, что теперь у него постоянный контракт с “Гренгуар” и другими издательствами. Ромен послал матери большой флакон духов и букет цветов. Он сразу написал три рассказа, но ни одну из них не опубликовали. Мать писала и расспрашивала о новых публикациях и Ромен вынужден был обманывать, что он использует другие псевдонимы если редакторы требовали “низкопробные рассказы”. Ромен пишет: “После чего я стал совершенно спокойно вырезать рассказы своих собратьев по перу из парижских еженедельников и посылать их матери с чувством исполненного долга и со спокойной совестью. Такой выход решал моральную проблему, но никак не материальную. Мне больше нечем было платить за квартиру, и я целыми днями ходил голодный, предпочитая скорее сдохнуть с голоду, чем лишить свою мать счастливых иллюзий” [3].
Еще одну ситуацию, описывает Ромен, которая кажется смешной, но в то же время грустной, поскольку показывает насколько Ромен не принадлежит себе, насколько он готов на все ради своей матери. Это ситуация, где мать рассказывает о своей идеи убийства Гитлера, и убить его должен ее сын. “Признаться, я с минуту колебался. Идея немедленно ехать в Берлин, разумеется в третьем классе, чтобы убить Гитлера, в самый разгар лета, с сопутствующими этому нервозностью, усталостью и приготовлениями абсолютно не улыбалась мне. Мне хотелось побыть немножко на берегу Средиземного моря — я всегда тяжело переносил разлуку с ним. Я предпочел бы перенести убийство фюрера на начало октября. Но, однако, и речи быть не могло, чтобы уклониться. Итак, я взялся за приготовления” [3]. Какие бы безумные идеи не приходили в голову матери Ромена, “о том, чтобы уклонится не могло быть и речи”. Но мать все таки передумала и сняла с него ожидания героического подвига.
Чтобы не делал Ромен, его больше всего беспокоило, что скажет мать, будет ли она гордится им. А мать в свою очередь озвучивала сыну все новые и новые ожидания. И когда он один из 300 учащихся не получил звание младшего лейтенанта, из-за политических причин, он думал о матери: “С комком в горле, совершенно потерянный, я продолжал стоять перед Сфинксом — лицо которого на этот раз было вполне человеческим, — стараясь понять происшедшее, в то время как возмущенные товарищи молча подходили ко мне и пожимали руку. Я улыбался, я до конца сыграл свою роль. Но мне казалось, что я умер. Мне вспомнилось лицо моей матери, когда она стояла на перроне в Ницце, гордо размахивая трехцветным флагом. Я никак не мог решиться объявить ей о своем провале. Напрасно я повторял себе, что она привыкла получать оплеухи, — я все пытался найти для этого более деликатный способ. Перед явкой в предписанный гарнизон нам полагался восьмидневный отпуск, и я сел в поезд, так и не приняв решения. Когда поезд подошел к Марселю, мне вдруг захотелось сойти с него, дезертировать, наняться в Легион, на грузовое судно, навсегда исчезнуть. Мысль увидеть ее усталое и постаревшее лицо, растерянный и непонимающий взгляд ее огромных зеленых глаз была мне невыносима. Меня стало мутить, и я едва успел добежать до туалета. Весь пролет от Марселя до Канн меня, как собаку, тошнило. И лишь за десять минут до подхода к вокзалу в Ницце меня поистине осенило. Надо было любой ценой уберечь образ Франции, родины всех справедливостей и красот в представлении моей матери” [3].
Когда началась война и объявили всеобщую мобилизацию мать приехала к нему, она вышла из машины и начала кричать его имя. Все насмехались над ним и бросали колкие слова в его адрес. Ромен униженный матерью, все же обнимает ее , при этом комментирует эту встречу так: “Думаю ни один сын не испытывал такой ненависти к матери, как я в тот момент” [3]. Это единственное место, где Ромен говорит о ненависти к матери. Мать была идеализирована, асексуальна, тотально посвятившей себя сыну, что послужило возникновению у Ромена невероятного чувства вины. Розенберг пишет о меланхоликах для которых характерен следующий компромисс – “компенсировать разрушительную ненависть в адрес объекта его нарциссически-идеализированным инвестированием” [13]. Можно предположить, что и в случае Ромена, идеализация матери служила защитой от такой разрушительной ненависти.
При этой встречи мать взяла обещание с сына, что с ним ничего не должно случится. И , видимо, снова “о том, чтобы уклонится не могло быть и речи”, он вынужден был пройти войну и выжить. И в таких экстремальных условиях материнская любовь пришла на помощь и не раз помогала Ромену выжить. Он пишет: “Я обещал ей быть на высоте. Похоже, ее это успокоило, и ее лицо вновь приняло задумчивое выражение.
- Кабины ваших самолетов открытые, — заметила она.
- У тебя всегда было слабое горло.
Я не удержался и заметил, что, если единственное, чем я рискую на боевой машине, - это схватить ангину, то мне действительно «повезло».
Она иронично и покровительственно посмотрела на меня:
- С тобой ничего не случится. Ее лицо выражало абсолютную уверенность.
Как будто она знала, будто она заключила договор с судьбой, и в обмен на ее неудавшуюся жизнь ей дали определенные гарантии, какие-то обещания” [3].
Когда Ромен узнает о том, что его мать в больнице он направляется к ней. При этой встрече мать считает важным сказать Ромену, что она действительно была актрисой, но особых высот не достигла. Также мать сказала Ромену, что ему необходима женщина рядом. Ромен ответил, что это касается всех мужчин. “Тебе будет труднее, чем другим” — сказала мать [3].
Когда Ромен вынужден был попрощаться с матерью и вернуться назад на службу, он еще не знал, что видятся они в последний раз, но от этого их прощание не стало менее трогательно: “Мое увольнение подходило к концу. Я провел еще одну ночь в клинике Сент-Антуан, сидя в кресле, и наутро, в последний раз отдернув занавески, подошел к матери попрощаться. Не знаю, как описать наше прощание. У меня нет слов. Но держался я мужественно. Я не забыл ее уроков о том, как надо обращаться с женщинами. Вот уже двадцать шесть лет, как моя мать жила без мужчины, и, уезжая, возможно навсегда, мне хотелось выглядеть в ее глазах скорее мужчиной, чем сыном.
- Ну, до свидания. Улыбнувшись, я поцеловал ее в щеку. Чего мне стоила эта улыбка, могла понять только она, которая, в свою очередь, улыбалась.
- Вам надо пожениться, как только она вернется, — сказала она. Она как раз то, что тебе нужно. И очень красивая.
Должно быть, она спрашивала себя, что со мной станет, если рядом не будет женщины. Она была права: я так и не смог отделаться от чувства обездоленности”.
Он продолжает:
“Я направился к двери. Мы еще раз улыбнулись друг другу. Теперь я чувствовал себя совершенно спокойным. Какая-то частичка ее мужества перешла ко мне и навеки во мне осталась. Ее мужество и сила воли до сих пор живы во мне и только затрудняют мне жизнь, не давая отчаиваться” [3].
В продолжение этой сцены я предлагаю рассмотреть одно из писем, которые Ромен получал, будучи на войне: “Дорогой мой мальчик. Умоляю тебя, не думай обо мне, не бойся за меня, будь мужественным. Помни, ты больше не нуждаешься во мне, ты уже не ребенок и можешь самостоятельно стоять на ногах. Дорогой мой, поскорее женись, так как тебе всегда необходима будет женщина рядом. Быть может, в этом моя вина. Но главное, постарайся быстрее написать хорошую книгу, так как потом она будет тебе большим утешением. Ты всегда был художником. Не думай слишком много обо мне. Я хорошо себя чувствую. Старый доктор Розанов мною доволен. Он передает тебе привет. Мой дорогой мальчик, будь мужественным. Твоя мать” [3].
На мой взгляд, в этом письме есть некое раскаяние, мать понимает последствия своей гипер заботы и любви, она понимает, что Ромену будет трудно быть одному после ее смерти. Я напомню, что будучи тяжело больной она написала около 250 писем, которые подруга отправляла Ромену после смерти матери. Она пытается убедить Ромена, что он в ней не нуждается, но как говорит Ромен - “я так и не смог отделаться от чувства обездоленности” [3]. Рихтер пишет по этому поводу следующее: “Так как такие люди, будучи детьми, легко терпят неудачу в развитии собственного, отделенного от отца с матерью Я-идеала либо Сверх-Я, можно понять их потребность сделать себя сверхзависимыми даже тогда, когда родителей нет на свете, от других людей или внешних условий. В этой связи говорится об экстернализации Я-идеала, но не следует упускать из виду то, что ему не предшествовала полная интегративная интернализация Я-идеала. Такой человек с детства не научен понимать себя иначе, чем управляемым и оцениваемым другими, чья нарциссическая проекция как бы придает смысл его существованию” [12].
После прихода немцев во Францию капитан предлагает Роману бежать в Англию либо Африку и он согласился. Перед самой посадкой на самолет его позвали к дежурному и он вынужден был задержатся. Ромен говорит об этой сцене: «Я был ошеломлен. Казалось почти сверхъестественным, что мамин голос смог пробиться ко мне посреди катастрофы, в то время как на дорогах, на телеграфе, на всех линиях царил хаос и полная неразбериха, когда командиры не имели сведений о своих войсках и когда следы какого-либо порядка исчезли под натиском немецких танков и авиации. Я ни минуты не сомневался: это звонила моя мать” [3]. Этот звонок матери спас Ромена от гибели, пока он говорил с мамой, самолет, на котором они с товарищами должны были лететь разбился при пробном полете.
Каждый раз когда у Ромена были трудности, к нему “приходила” мать:
“Пользуясь моим крайним нервным переутомлением и подавленностью, мать не отходила от меня ни на шаг. Моя полная растерянность, моя потребность в привязанности и защите, вызванная долгой материнской опекой, оставили во мне смутную ностальгию по ниспосланной мне провидением женской неясности, образ женщины-хранительницы ни на минуту не покидал меня. Мне кажется, что именно во время этих странствий, только усиливавших мое одиночество в чужой и пестрой толпе, сильные черты характера моей матери окончательно взяли верх над моей слабостью и нерешительностью. Она вдохнула в меня свое дыхание, и я буквально перевоплотился в свою мать со всей ее вспыльчивостью, перепадами настроения, отсутствием чувства меры, агрессивностью, с ее манерами, с любовью к драме, со всеми крайностями ее характера, которые впоследствии снискали мне славу сорвиголовы среди товарищей и начальства” [3].
Это перевоплощения в собственную можно прокомментировать словами Рихтера: “И если раньше мы говорили, что ребенок интроецирует или усваивает определенную для него роль, имелось в виду, что он интернализирует не только заказ на выполнение определенных достижений, но вместе с заказом и заказчика. И особенно в этих нарциссических ролях переживание ребенка, что он должен заменить только один аспект родительской самости, может привести к серьезному кризису идентичности по Эриксону. Тогда ребенок не приходит к собственной самости, а застревает на фантазии: я – лишь одна сторона моей матери или моего отца” [12].
Рихтер также пишет: “Таким образом, сформированная нарциссической проекцией родителя роль становится неотъемлемой частью детского характера” [12]. И мы можем убедиться, что эти интроецированные требования матери действительно стали неотъемлемой частью Ромена, более того этот интроект требований стал для него преследующий. “Однако мать всюду следовала за мной по пятам, и ее голос раздавался во мне с хлесткой иронией: Ну что, немного туризма идет на пользу? Ты, видимо, хочешь отвлечь меня от моих мыслей? В то время как Франция твоих предков лежит, растерзанная, меж неумолимым врагом и склонившим голову правительством? Ну что ж! Раз у меня такой сын, то мы с таким же успехом могли остаться в Вильно, незачем было ехать во Францию, в тебе действительно нет главного, что делает человека французом” [3].
В другом месте Ромен приводит диалог с матерью, который был галлюцинацией:
- Уже несколько месяцев ты ничего не пишешь, — с упреком говорила она.
- Так ведь война.
- Это не оправдание. Надо писать. Я всегда мечтала стать великой актрисой.
У меня сжалось сердце.
- Не беспокойся, мама, — ответил я. Ты станешь великой, прославленной актрисой. Я это устрою.
Я зажал руками уши. Я улыбался, но слезы катились по моим щекам.
- Ну хорошо, мама, хорошо. Пусть будет так. Пусть. Я сделаю, как ты хочешь. Я стану посланником. Великим поэтом. Генералом. Только дай мне время. И следи за своим здоровьем. Регулярно обращайся к врачу [3].
Справедливости ради, нужно отметить, что требования “внутренней матери” не давали Ромену не только спокойно жить, но и умереть он не мог пока не реализовал мечты матери. И он писал несмотря ни на что, не смотря на то, что была война, он писал даже тогда когда его сослуживцы отдыхали перед заданиями.
Весь период войны Ромен получал письма от матери со словами поддержки, с безграничной верой в него, с уверенностью, что с ним все будет хорошо и он станет известным писателем. Он пишет: “Целых три с половиной года меня поддерживали более сильный дух и воля, и через пуповину моей крови передавалось мужество более закаленного сердца, чем мое собственное” [3]. Та же пуповина спасала ромена от смертельной болезни, когда врачи говорили, что у него один шанс из тысячи и прогнозы были очень пессимистичны: “Через много лет после моей болезни, когда я встречал кого-нибудь из лечивших меня врачей, они всегда недоверчиво смотрели на меня и говорили:— Вам никогда не узнать, откуда вы вернулись. Возможно, но боги забыли перерезать мне пуповину.[...]Они забыли перерезать мне пуповину, и я выжил. Воля, жизненная сила и мужество моей матери продолжали передаваться мне и поддерживать меня” [3].
Источником такой непоколебимой воли к жизни было обещание, которое он дал матери. Он не мог допустить мысли о том, что он разочарует мать и вся ее жертвенность будет напрасной. Он пишет: “После чего ненадолго потерял сознание, и, когда вновь выплыл из небытия, произошло исцеление. Хотя до конца я все еще не верил в это. Тем не менее я твердо решил вернуться в Ниццу в офицерской форме, с грудью, усыпанной орденами, и провести мать под руку по рынку Буффа. Затем под аплодисменты можно будет пройтись и по Английской набережной. “Поприветствуйте эту знатную француженку из отеля-пансиона „Мермон“, о ней так много говорили, она прославила нашу авиацию, ее сын может ею гордиться!» Пожилые господа почтительно снимают шляпы, звучит «Марсельеза», кто-то шепчет: «Они все еще связаны пуповиной», И я и вправду вижу длинную резиновую трубку, которая торчит из моей вены, и торжествующе улыбаюсь. Вот что значит истинное искусство! Вот что значит верность обету! А они надеялись, что я откажусь от своей миссии под предлогом, что врачи приговорили меня, что меня уже причастили и товарищи в белых перчатках уже приготовились нести почетный караул у моего гроба с зажженными свечами. Ну нет, никогда! Лучше уж жить — как известно, я никогда не пасовал перед опасностями” [3].
Очень скоро после смертельной болезни Ромен вернулся на службу. Однажды вернувшись после сложного задания, он узнал, что одно английское издание хочет перевести и опубликовать его роман. Он назвал этот момент “вторым рождением”. Ромен пишет: “У меня было чувство, что наконец-то я что-то для нее сделал; я знал, с какой радостью она будет перелистывать страницы книги, автором которой сама является. Наконец-то начали сбываться ее артистические мечты, и, кто знает, вдруг ей повезет и она прославится. Поздно она дебютировала: сейчас ей шестьдесят один год. Не став ни героем, ни французским посланником, ни даже секретарем посольства, я все же начал сдерживать свое обещание — придать смысл ее борьбе и самопожертвованию, — и моя книга, какой бы тонкой и легкой она ни была, брошенная на чашу весов, кажется, начинает перевешивать” [3].
Когда пришло очередное письмо от матери, он читал и перечитывал его, он хотел уловить хоть малейшею похвалу, поздравления, но не было ничего. “Наконец я понял смысл ее немого упрека, заключавшегося в явном отказе говорить о моей книге. Пока Франция оккупирована, она ждет от меня военных, а не литературных побед” [3].
Мне сложно представить, что чувствовал Ромен, когда после стольких стараний не получил никакого ответа от матери, ни слова, вообще ничего. И, видимо, для него это было сигналом, что он недостаточно старается и это дало ему возможность быть бесстрашным и не считаться с возможностью смерти. Мне кажется, для Ромена смерть ничто по сравнению с разочарованием матери. И вот настало время для военных подвигов. Будучи на военном задании, где под обстрелами один за другим падают сбитые самолеты его сослуживцев, он получает ранение, но не поддается страху, ведь за то, что так горячо любимо матерью, за Францию, нужно бороться, как за саму мать. И нужно помнить, что за каждым его подвигом следит восхищенный взгляд матери, на этот раз с фотографии напротив. В этом задании он помогает своему сослуживцу, который получил ранение и утратил возможность что-либо видеть, выполнить задание, вернутся и посадить самолет. Он пишет: “Думаю, что впервые в истории Королевских ВВС почти абсолютно слепому пилоту удалось посадить самолет” [3].
За этот подвиг Ромен был вознагражден генералом де Голлем крестом «За Освобождение» под Триумфальной аркой. Ромен пишет: “Наконец-то я смогу вернуться домой с высоко поднятой головой: моя книга принесла матери писательскую славу, о которой она мечтала, а теперь я могу сложить к ее ногам высочайшие военные французские награды, которые она с честью заслужила. Я верил, что возвращаюсь домой, сдернув с мира паутину и придав смысл жизни любимого человека” [3].
Но приехав домой его ожидали новости, о которых он даже не мог помыслить, его мать умерла. Перед смертью мать написала около 250 писем и поручила доктору переправить письма ее знакомой в Швейцарию, чтобы та посылала Ромену письма в Англию, регулярно, одно-два письма в неделю. “Итак, мать продолжала вселять в меня силу и мужество, необходимые для продолжения борьбы, в течение трех с лишним лет, хотя ее уже не было. Пуповина продолжала действовать” [3].
В конце книги Ромен пишет: “Я достойно сдержал и продолжаю сдерживать свое обещание. Всем сердцем я служил Франции, так как это все, что у меня осталось после смерти матери, не считая ее маленькой фотокарточки с удостоверения личности. Кроме того, я пишу книги, сделал карьеру и одеваюсь по-лондонски, как и обещал, несмотря на свое отвращение к английскому покрою” [3].
Рихтер пишет: “Детям предписывается утерянная родителями в обществе роль. Однако диапазон вариаций идеалов, которые можно объединить собирательным термином «стремление к престижу», довольно обширен. Иногда ребенок должен получать или восстанавливать вместо родителей звания, титулы, владения, а иногда – осуществлять родительские амбиции посредством образования, «аристократичного образа жизни» или в виде снимающегося в кино, катающегося на коньках, занимающегося музыкой “звездного ребенка” [12].
Читая биографию Ромена Гари мы сможем убедиться, что удивительным образом ему удалось исполнить все мечты матери и даже больше. Роман Кацев стал Роменом Гари. Он написал 34 романа и снял 2 фильма. Ромен Гари — единственный писатель, дважды получивший Гонкуровскую премию. По уставу эта премия может быть присуждена автору только один раз в жизни. Первый раз Гари получил Гонкуровскую премию году в 1956 за роман «Корни неба», второй — за роман «Вся жизнь впереди», опубликованный под именем Эмиля Ажара. Писатель выдал за неизвестного начинающего автора Эмиля Ажара своего двоюродного племянника, внука младшего брата матери Ильи Осиповича Овчинского. Некоторые проницательные читатели догадывались о тождестве Ромена Гари и Эмиля Ажара, но окончательно мистификация Гари была раскрыта в посмертной публикации его книги «Жизнь и смерть Эмиля Ажара». Номинировался (1971 год) на Нобелевскую премию по литературе.
Благодаря своим военным заслугам Гари был принят на французскую дипломатическую службу, которая продолжалась до 1961 года. Занимал должности в Болгарии (1946—1947), Париже (1948–1949), Швейцарии (1950—1951), затем в Постоянном представительстве Франции при Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 1951—1954), и, наконец, был генеральным консулом Франции в Лос-Анджелесе (1956—1960).
Ромен Гари был женат дважды: с 1944 по 1962 год — на британской писательнице Лесли Бланш, с 1962 по 1970 годы — на американской актрисе Джин Сиберг, у них родился сын Диего. Лесли Бланш была моложе Ромена на 24 года. 8 сентября 1979 года ее завернутое в одеяло тело обнаружили на заднем сиденье белого «Рено», стоявшего на окраине Парижа, на улице генерала Аппера. В крови актрисы обнаружили высокое содержание снотворного и алкоголя. В её руке была зажата предсмертная записка, написанная по-французски, со словами: «Простите, я больше не могу жить со своими нервами». Полицией был сделан вывод, что Джин Сиберг покончила жизнь самоубийством. Актрисе было всего сорок лет. Через год с небольшим покончит жизнь самоубийством и Ромен Гари. В 66 лет Ромен покончил жизнь самоубийством , он застрелился 2 декабря 1980 года, написав в предсмертной записке: “Можно объяснить всё нервной депрессией. Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом”. В начале книги Ромен писал: “Иногда крачки садятся так близко, что я замираю и давняя мечта просыпается и волнует меня: еще немного, и они усядутся мне на голову, приникнут к рукам и шее, покроют меня совершенно… В свои сорок четыре года я все еще мечтаю о какой-то первозданной неясности”[3]. Может ли эта “первозданная неясность” быть прочитана нами как желание слияния с матерью? И может ли суицид Ромена быть реализацией этого желания?
Смерть матери была для Ромена серьезным испытанием, ведь даже ее болезнь он не мог выносит. И вероятно литературное творчество, это то, что помогало ему справится с утратой. Как он сам написал “литературное творчество стало лазейкой, через которую пытаешься бежать от невыносимого”.
Мы видим, что мать Ромена видела в нем продолжения собственной самости и с помощью нарциссических проекций на сына, сделала его ответственным за реализацию и достижения ее собственного Я-идеала. Такие отношения матери и сына влияли на возможность интеграции Я и сепарации. Невозможность сепарации была обусловлена и очень сильным чувством вины и долга перед матерью. Мать для Ромена является идеализированной и мы видим лишь исключительное проявление любви и остается вопрос - а что по ту сторону идеализации?
Мы можем предположить у Ромена наличие предпосылок к меланхолии. Из биографии Ромена Гари мы знаем о его суициде вскоре после смерти его жены. Мы знаем, что любая утрата отсылает нас или вскрывает прежние утраты. Но я могу только предположить, выходя из того, что пишет Ромен, что отношения с матерью сформировали предпосылки для осложнения работы горя, но проследить и убедиться в том, что у Ромена была меланхолия и что его суицид связан с провал работы меланхолии, я не могу. Мы имеем только факт его суицида, но было ли это следствием отношений с матерью остается вопросом.
Список литературы:
1. Бенвенуто С. Фрейд: нарциссизм, печаль, меланхолия (перевод Н. Харченко) // «Психоаналіз.Часопис». – Киев: ПВНЗ «МІГП», 2019. – №2 (24). – с. 91.
2. Волкан В., Зинтл Э. Жизнь после утраты: Психология горевания / Пер. с англ.-2-е стереотип. изд. - М.: Когито-Центр, 2017. - 160
3. Гари Ромен “Обещание на рассвете” изд. -Книжкова майстерня, 322с.
4. Грин А. Мертвая мать // Французская психоаналитическая школа. Сборник статей. – СПб.: Питер, 2005.
5. Кинодо Ж.-М. Приручение одиночества. Сепарационная тревога в психоанализе, издательство Когито Центр, 2008.
6. Кристева Ю. Черное солнце: Депрессия и меланхолия / Пер. с фр.- М.: Когито-Центр, 2016. - 276 с. (Библиотека психоанализа)
7. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. – М., 1998
8. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я, редактор А.Б. Орлов, издательство “Прогресс”
9. Пайнз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной.
10. Перверсия утраты: психоаналитический взгляд на травму. Под редакцией Сьюзан Леви и Алессандры Леммы. - Киев: Издательство Ростислава Бурлаки, 2021. - 286 с.
11. Ракамье П-К. О Нарциссической перверсии. Международный психоаналитический ежегодник, 2015. с. 269
12. Рихтер Хорст-Эберхард. Родители, ребенок и невроз: психоанализ детской роли. (электронная книга)
13. Розенберг Б. Мазохизм смерти и мазохизм жизни. Издательство Когито-Центр, 2018. (электронная книга)
14. Торок М. Болезнь траура и фантазм чудесного трупа // Французская психоаналитическая школа. Сборник статей. – СПб.: Питер, 2005.
15. Уэллдон Э. Мать. Мадонна. Блудница. Идеализация и обесценивание материнства. - 2016. - 204 ст.
16. Фрейд З. О введении понятия нарцизм // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3. Психология бессознательного. – М.: ООО «Фирма СТД», 2006.
17. Фрейд З. Печаль и меланхолия // Фрейд З. Психика: структура и функционирование / пер. с нем. А. М. Боковикова. – М.: Академический Проект, 2007.
18. Эльячефф К., Эйниш Н. ДОЧКИ-МАТЕРИ. Третий лишний? -Перевод с французского О.Бессоновой под редакцией Н. Поповой. М.: Наталья Попова, «Кстати», Издательство «Институт общегуманитарных исследований», 2016 - 448 с.