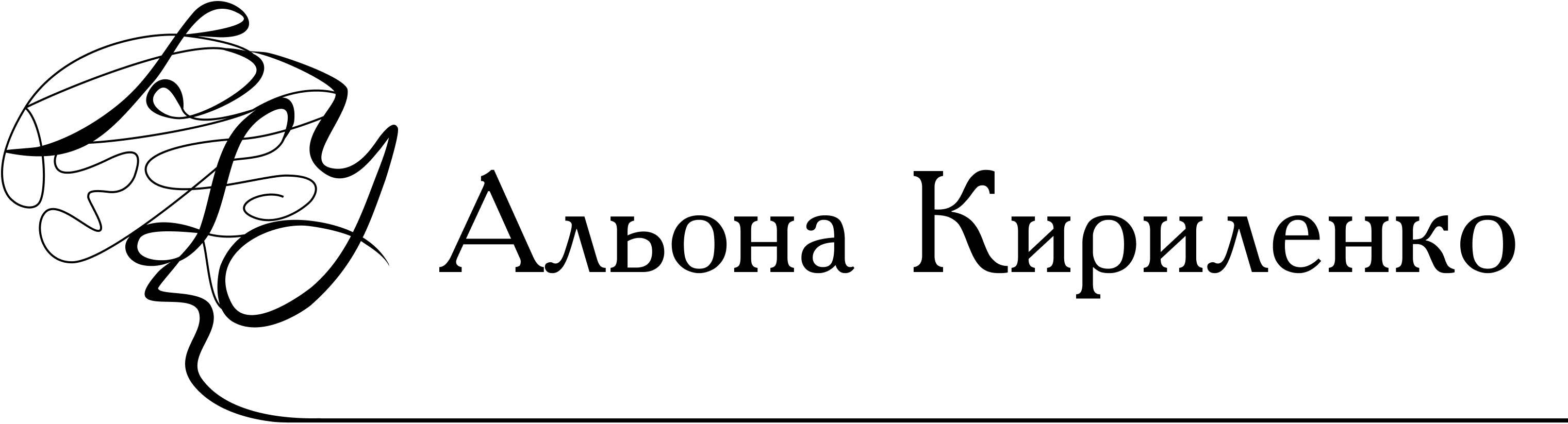
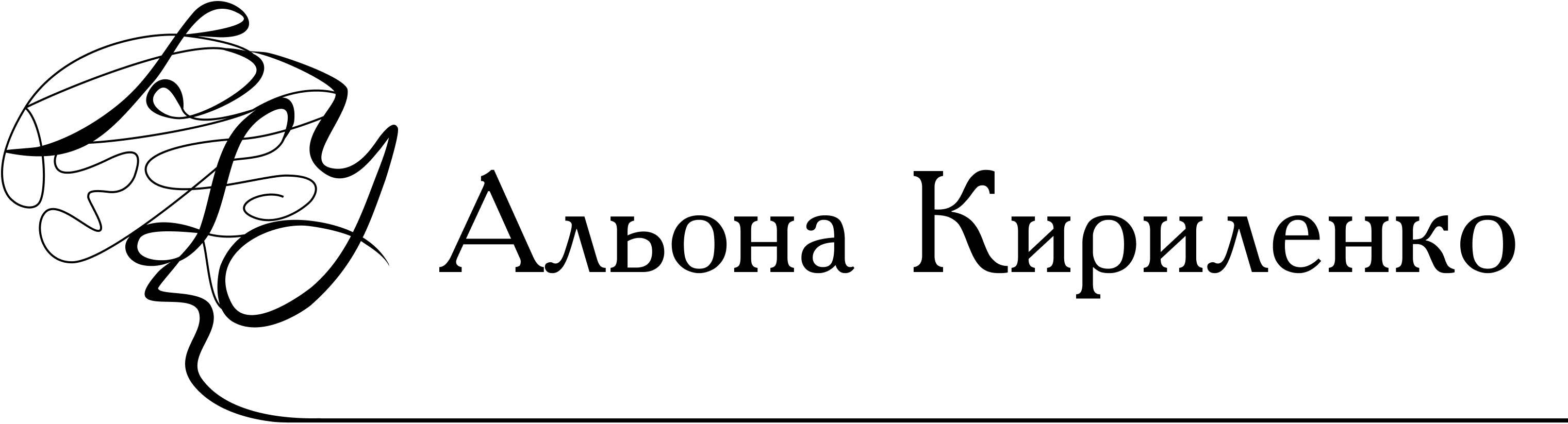

В психоанализе выделяют три способа совладания с возбуждением, душевной болью или травмой: психический, поведенческий и соматический. В своей работе я исследую как подростки используют эти способы и отмечаю, что часто они прибегают к поведенческому способу из–за особенностей подросткового периода, в котором натиск влечений очень сильный.
Психический путь является самым экономически выгодным, самым развитым и связан с работой символизации, что предполагает переработку психического опыта и его интеграцию. «Первичная психическая материя должна быть психически метаболизирована (П. Оланье, Ж. Лапланш), и эта метаболизация – ключ к психической интеграции – осуществляется посредством символизации. Такой процесс символизации делает возможным другой процесс – субъектализации, который представляет собой явление субъективной интеграции или присвоения, т.е. процесс, посредством которого человек присваивает себе свой собственный пережитый опыт» [3].
Рене Руссийон пишет: «...именно наш самый первый опыт больше всего стремятся затем к повторению и стремится он к этому потому, что он не был интегрирован из–за слабости процессов психического синтеза». Наряду с ранним опытом автор отмечает и травматический опыт, который не смог стать репрезентированным и поэтому также будет стремится к повторению.
Рене Руссийон говорит, что суть основы нашего психического функционирования состоит в том, чтобы создавать репрезентации и психика может работать только лишь с репрезентациями, и, более того, для нее все есть репрезентация. Исходя из такого положения вещей, отметим несколько моментов, касающихся работы символизации. Почему это важно? Психический путь совладания с возбуждением может быть недоступен по двум причинам: первая – слабость или неразвитость функции символизации, вторая – перегруженность психического аппарата.
Рене Руссийон выделяет два условия или предусловия символизации. Первое: «Символизация или развитие репрезентативной способности требует, чтобы количество возбуждения, связываемое символизацией, было бы относительно умеренным и не превышало возможности ребенка». Что отсылает нас к материнской функции и к холдингу. Второе условие – эдипов комплекс, он пишет: «Согласимся с тем, что квалификация через материнский объект своего отношения или своего желания третьего позволяет субъекту выйти из пресимволической и антисимволизирующей умозрительности» [3]. И это отсылает нас к отцовской функции. Если эти условия или как говорит Рене Руссийон, предусловия не выполнены, тогда мы в принципе будем иметь дело со сложностями психической обработки, вплоть до ее невозможности и как следствие – соматизации.
Создание репрезентации объекта позволяет переживать его отсутствие в детстве и это берет свое начало из галлюцинаторной деятельности младенца. Во взрослом возрасте репрезентации позволяют переживать сложные испытания, в т.ч. и потери. Фрейд писал: «Однако эта задача (отнятие либидо от объекта) не может быть выполнена сразу. Она решается в каждом отдельном случае с большими затратами времени и катектической энергии, при этом утраченный объект продолжает существовать психически» [5].
То, что в психике есть репрезентация утраченного объекта и позволяет состоятся работе скорби. Рене Руссийон на семинаре «Символизация и работа символизации» сказал: «Мы не можем отказаться от того, чего у нас не было. Нужно достичь этого достаточно, чтобы потом отказаться от этого».
В том случае, когда разрядку возбуждения невозможно получить психическим способом мы можем прибегать к поведенческому. Поведенческий способ предполагает разрядку возбуждения посредством моторной активности, действия. Т.е. в поведенческом способе вместо слова человек совершает действия. Матиас Хирш, например, к поведенческому относит самоповреждающее поведение, агрессивное поведение, расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия), аддиктивное поведение, суицидальное поведение, а также он пишет об подростковой беременности, которую на мой взгляд, также можно отнести к поведенческому способу. Несмотря на то, что всё вышеперечисленное относится к «инструментам» подросткового возраста, рассмотрим более подробно аддиктивное поведение.
«Понятие аддиктивное поведение охватывает различные типы поведения: сюда входят наркотическая зависимость и алкоголизм, курение, пристрастие к азартным играм и обильной еде, а также гиперсексуальность» [2].
Клод Эсканд на курсе лекций, посвященных аддикциям говорил о том, что прибегание к аддикциям предполагает некоторый парадокс – разрушить свою жизнь, чтобы ее спасти. Объект аддикции разрушает тело, но спасает психику от крушения. При аддикциях механизм инкорпорации является центральным, так же как и при меланхолии. Инкорпорация – это механизм, который защищает от утраты. При инкорпорации объект не утрачен, а поглощен, помещен вовнутрь, при этот качества объекта приписываются себе. Т.е. аддикты ведут себя так, как будто нет утраты, нет нехватки, нет желания. Нехватка для зависимых невыносима, организация нехватки у них потерпела провал из–за поломки материнской и/или отцовской функции. Клод Эсканд говорит, что если окружение или общество не может поддержать желание (т.е. поддерживают слияние или совершают захват), то инкорпорация является единственным выходом.
Клод Эсканд говорит, что есть три выхода из невыносимого окружения – безумие, суицид, аддикции. Но аддикции не всегда являются защитой от психического краха, иногда это может быть «случайно найденное решение» (хотя в таком случае, возможно, лучше говорить о злоупотреблении или о вредных привычках, а не об аддикции). Клод Эсканд говорит, что аддикция может быть укрытием или анестезией. Здесь можно вспомнить слова Фрейда о том, что «намерения сделать человека «счастливым» план «творения» не предусматривал» и что есть три источника страданий: «всемогущество природы, бренность нашего тела, недостаточность учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе» [6].
То есть, даже если в жизни человека не происходит никаких травматических событий, он все равно может испытывать страдания и он может от них укрыться с помощью интоксикаций. Фрейд пишет: «Эффект наркотиков в борьбе за счастье и избавление от горя столь часто оценивается как благо, что индивиды, да и целые народы, отвели им прочное место в экономике своего либидо. Им благодарны не только за непосредственное ощущение удовольствия, но и за вожделенную частицу независимости от внешнего мира. Ведь известно, что с помощью этих «избавителей от забот» всегда можно избавиться от гнета реальности и найти убежище в собственном мире с лучшими условиями для получения ощущений» [6].
Когда мы имеем дело с аддикцией как со «случайно найденным решением», то речь идет не о тотальном объекте. Хотя, на мой взгляд, это очень тонкая грань, ведь мы должны учитывать химические свойства вещества, а также тело и физическую зависимость, которую оно может развивать.
Эдит Сэбшин также говорит о том, что злоупотребления химическими веществами имеет защитную и адаптивную функции, она пишет: «Использование химических веществ может временно (я подчеркиваю: временно) изменить регрессивные состояния, усиливая защиты Я, направленные против мощных аффектов, таких как гнев, стыд и депрессия. [...]Сегодня многие психоаналитики считают, что главным в аддиктивном поведении является не импульс к саморазрушению, а дефицит адекватной интернализации родительских фигур и, как следствие, нарушение способности к самозащите» [2].
Эдит Сэбшин говорит, что отсутствие адекватной интернализации родительских фигур влияет и на способности к рассуждению, на саморегуляцию аффективной сферы, контроль над импульсами. И это соответственно приводит к проблемам в отношениях, автор отмечает, что многие аддикты не способны к близости в отношениях, в том числе из–за нарциссической уязвимости. «Зависимость от наркотиков, таким образом, можно рассматривать как адаптивное поведение, направленное на то, чтобы облегчить боль, вызванную аффектами, и на некоторое время повысить способность владеть собой и функционировать. Аддиктивное поведение представляет собой отчаянную попытку вылечить себя столь небезопасным “лекарством”» [2].
Эдит Сэбшин ссылаясь на исследование других авторов отмечает , что наркотическая зависимость определяется рядом факторов: потребностью в контейнировании агрессии; страстным желанием удовлетворить стремление к симбиотическим отношениям с материнской фигурой; желанием ослабить депрессивное состояние [2].
Важно еще отметить, что Сверх–Я аддикта является невыносимым, суровым мучителем, карающим, которое можно временно нейтрализовать бегством в мир наркотиков. «Аддикты ведут непрестанную борьбу с чувством стыда и вины, ощущением своей никчемности и с повышенной самокритичностью» [2].
Обратимся к другому автору Роберту Сэвитту, который отмечает нетерпимость аддиктов к боли и фрустрациям. «Аддикты действуют так, как если бы любое напряжение грозило им тяжелой травмой. Поэтому их основной целью становится избегание напряжения и боли, а не достижение удовольствия. Любое напряжение воспринимается как предвестник явной угрозы существованию, так же как младенцем воспринимается чувство голода. Жизнь наркомана проходит в чередовании удовлетворения "наркотического голода" и наркотического ступора, как в жизни младенца чередуется чувство голода и сон. Пока напряжение не будет полностью снято, аддикт остается в ситуации, напоминающей недифференцированное состояние новорожденного, когда тот, еще не способный связывать напряжение, оказывается переполненным стимулами, от которых у него пока нет адекватного механизма защиты» [2].
Т.е. мы видим, что казалось бы обычное чувство голода вызывает у младенца сложные переживания (с которыми нет возможности справиться) и даже угрозу жизни, поэтому еще раз важно отметить важность опыта всемогущества для младенца, ведь если ребенок подвержен слишком сильной фрустрации, которая еще и повторяется, ребенок слишком рано теряет чувство всемогущества и может чувствовать себя беспомощным. И эти переживание беспомощности, бессилия, по словам Эдварда Дж. Ханзян, являются центральными у аддиктивных пациентов. Он пишет: «Аддиктивное поведение характеризуется мощным, непреодолимым влечением, которое, несомненно, агрессивно по своей природе и служит для преодоления чувства беспомощности и восстановления ощущения внутренней власти. Это интенсивное агрессивное влечение, возникающее как результат нарциссической уязвимости, можно назвать нарциссической яростью» [2].
Коснемся темы самоубийств, которая также относится к поведенческому способу. Фрейд и Розенберг писали, что самоубийство может быть провалом работы меланхолии. Карл Меннингер наряду с очевидным стремлением к самоуничтожению, т.е. самоубийством, предлагает рассмотреть скрытые формы этого явления, которое называет «хроническим самоубийством». К хроническому самоубийству автор относит все наркотические зависимости для которых характерно «искажение направленности внутренней агрессии, половая неудовлетворенность и бессознательное стремление к наказанию, порожденное чувством вины за собственную агрессивность». А также он пишет об аскетизме, который называет «утонченной формой медленного умирания». Он пишет: «Существуют и более драматические формы хронического самоубийства, такие как мученичество и то, что называют «хроническим невезением», когда человек, возможно, из провокационных соображений, сознательно вступает на тропу смерти и шествует по ней с гордо поднятой головой. Смысл феномена заключается в изощренности, с которой жертва подтасовывает факты и манипулирует обстоятельствами в стремлении поставить их себе в заслугу; при этом человек действует совершенно бессознательно» [1].
Подводя итог, можно сказать, что прибегание к аддикциям, как поведенческому способу справиться с возбуждением, позволяет защититься от утраты, что поднимает вопросы структурирования субъекта. Т.е. прибегание к аддикциям в подростковом возрасте – это способ не болеть «болезнью человека», как говорил Серж Лесур, т.е. защититься от кастрации и использовать объект, который позволит испытывать абсолютное наслаждение. Но также это может быть «решением», чтобы смочь справиться с тяжелыми чувствами, переживаниями, с которыми невозможно совладать из–за отсутствия хороших внутренних объектов.
Что касается суицида – это «роковая разрядка», суицид является радикальным способом решить конфликты с внутренними объектами и/или внешним миром.
Такой же роковой разрядкой, на мой взгляд, является необратимая соматизация. Но перед тем как перейти к необратимой соматизации, отметим, что есть два вида соматического отреагирования: конверсионный симптом и соматизация. Разница между ними в том, что при конверсии мы имеем дело с запретным желанием и при этом симптом имеет символическое значение, которое в анализе мы стремимся разгадать, истолковать. Особенность конверсий заключается еще в том, что их природа не обусловлена никакими органическими причинами. Что касается соматизации – это разрядка возбуждения без каких либо символических значений. У психосоматического пациента мы можем наблюдать скудность психической деятельности: им сложно фантазировать, ассоциировать, им свойственна алекситимия, часто им даже не снятся сновидения, их речь монотонна, скучна, они говорят о бытовых вещах, перечисляя просто события, которые с ними произошли за день. Пьер Марти и Мишель де М'Юзан говорили об оператуарном мышлении у психосоматического пациента, которое «обусловлено недостаточностью его фантазматических и символических основ».
При отсутствии возможности психически справиться с утратой объекта мы можем иметь дело с соматизацией. Клод Смаджа в статье «Горе, меланхолия и соматизация» рассматривает соматизацию как еще один патологический ответ на потерю объекта любви наряду с меланхолией. Меланхолия как патологическое решение в психическом плане, а соматизация – соматическом.
Клод Смаджа в своей статье говорит об исследовании, которое позволило обнаружить связь между недостаточной или отсутствующей работой горя и развитием тяжелей соматизации. Он пишет: «В реальности мы не очень удивлены этой корреляцией между непроработанной или плохо проработанной потерей объекта и возникновением соматизации, поэтому достаточно часто и регулярно обнаруживаются следующие процессуальные фрагменты: дезорганизующее травматическое событие, за которым следует более или менее долгое латентное, с точки зрения симптоматики, время, характеризующееся психическим безмолвием; затем возникают первые физиологические признаки заболевания, и все это проявляется клиническим заболеванием» [4]. Т.е. мы видим, что для соматизации характерно то, что после утраты объекта не наблюдается ни аффекта психической боли, ни явного снижения интереса к миру у больного, но через время проявляются признаки заболевания.
Клод Смаджа пишет, что тяжелому соматическому заболеванию предшествует или оно сопровождается эссенциальная депрессией для которой характерно исчезновение либидо, как нарциссического, так и объектного, и это происходит без экономической компенсации. Отсутствие положительной экономической противонагрузки, по словам автора, эквивалентно дезорганизации всех функций, как психических, так и соматических, он пишет: «Очень выражен важный элемент, а именно стирание основных психических функций во всей иерархии ментальной динамики. Я хочу перечислить те функции, которые стираются: идентификация, интроекция, проекция, смещение, сгущение, ассоциация мыслей; затем происходит даже пробное стирание онирической и фантазматической жизни» [4].
Из–за низкого уровня нарциссического либидо потеря объекта при работе соматизации является кризисом, который актуализирует саморазрушение. Автор пишет, что «психическая дезорганизация, ведущая к соматизации, не смогла встретить на своем пути точки фиксации или площадки для остановки, позволяющие, как в случае меланхолии, осуществить реорганизацию, основанную на эротических составляющих». При соматизации «тело принимает на себя удары вместо дезорганизованного психизма и предлагает себя как новую возможность реобъектализации, как наследство психического объекта». И если при меланхолии мы имеем дело с конфликтом между Я (которое идентифицировало себя с утраченным объектом) и Сверх–Я, то при соматизации объектом становится тело, а сама соматизация – представителем «Сверх–Я».
Клод Смаджа пишет, что «экономические условия, начиная с которых психическое функционирование пациента запускает движение дезорганизации вплоть до возникновения соматизации, необходимо искать в ранней истории пациента. В целом они связаны с пережитым опытом боли, оставивший в психике прочные следы, составляющие нарциссическую рану».
Список литературы:
1. Меннингер К. Война с самим собой. 1938 г. (электронная книга)
2. Психология и лечение зависимого поведения/Под ред. С. Даулинга/Пер. с англ. Р.Р. Муртазина. — М.: Независимая фирма "Класс", 2000. – 240 с.
3. Руссийон Р. Работа символизации. Уроки Психоанализа на чистых прудах. Сборник статей приглашенных преподавателей. – М. : Издательский Дом «Наука», 2016. – 312 с.
4. Смаджа К. Горе, меланхолия и соматизация. Уроки Психоанализа на чистых прудах. Сборник статей приглашенных преподавателей. – М. : Издательский Дом «Наука», 2016. – 312 с.
5. Фрейд З. Скорбь и меланхолия // Том 3. Психология бессознательного. – Пер. с нем. А.Боковикова – М.: ООО «Фирма СТД», 2006.
6. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Том 9. Вопросы общества. Происхождение религии. / Пер. с нем. А.Боковикова – М.: ООО «Фирма СТД», 2006.